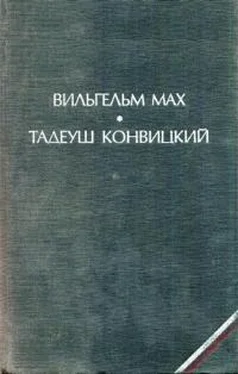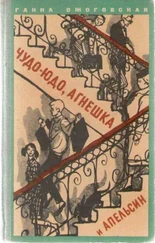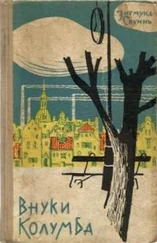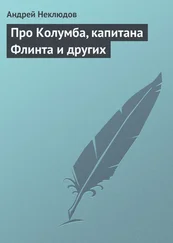Если бы ты спросила меня, какое из теперешних моих чувств самое сильное, я ответила бы, что удивление. И это самое удивительное, и я больше всего этому удивляюсь. Вместо того чтобы без конца кричать и умирать, вместо того чтобы умереть. Меня зовут Агнешка Жванец. Я думаю, стараюсь думать логично, без сумбура. Я существую. Я одна. Я удивляюсь, вместо того чтобы кричать, убегать или умирать. Может быть, это здоровье заставляет меня так удивляться, может быть, молодость. Но значит, я уже не молода, если я до этого додумалась. Вместо того чтобы плакать. Поразительное внезапное смещение чувств. Я размышляю, как чопорная, напыщенная, черствая, сухо-сентиментальная старуха. Размышляю, вместо того чтобы кричать, убегать. Мне стыдно за себя. Это мерзко и уродливо. Иза, это невозможно понять, но во мне уже нет крика, умирания, того самого, что началось часа два тому назад или больше. Есть пустота. Хотя нет: признаюсь во всем до конца. Есть невыразимое облегчение. Я оказалась вдруг — и до чего же быстро! — по другую сторону. Я все такая же и не такая. Я боюсь называть это своим именем, ведь оно может вернуться через час или завтра, и все начнется сначала. А может быть, и не вернется. Сейчас мне не больно. Лишь удивляет воспоминание о боли. Что это было, как это назвать? Сон? Безумие? Завороженность? Пробуждение? Освобождение? Вот, значит, какова молодость, как не уверена она в своих снах, как неверна и непостоянна. Все это минуло часа два тому назад. У меня еще горит ладонь, стертая о веревку.
Стертая о веревку. Но ведь мне хотелось ее сжать. Пожалуй, ты догадаешься, Иза, пожалуй, сумеешь понять. Сама я не признаюсь даже в воображаемом разговоре, как я сжимала веревку, как все это случилось по моей, не по его воле, когда он поднялся с кипы сетей, не желая больше слушать моих просьб, не желая больше толковать со мной, и направился к лодке, сама я не признаюсь, каким образом получилось так, что моя рука запуталась, увязла в петле веревки, висящей на его плече, что я не освободилась от этой веревки, мои руки сжали на миг его склоненную голову, и кончиками пальцев я нашла под волосами, чуть выше лба, памятный шрам, я еще и сейчас как бы осязаю форму этой головы, ее тепло и колючесть, может быть, только это я сберегу и запомню из всей его отчужденности, сломленной и прирученной на какие-нибудь считанные секунды, впрочем, запомню еще и догорающее зябкое зарево за контуром его щеки, и первые редкие звезды, внезапно ставшие неподвижными, а потом вдруг взлетевшие кверху, когда… И все же вопреки собственной воле я вспоминаю эту картину и эту горчайшую минуту, хотя мечтала бы забыть и утаить ее, как утаила сегодня о себе многое другое в рассказе об этой последней встрече. Он оттолкнул меня, я отшатнулась назад, но не упала, меня удержала замотанная на руке, связывающая нас веревка. Он рванулся, веревка, разматываясь, ободрала мне ладонь, и я отпустила ее. Отяжелевший к ночи песок сухо шуршал под его ногами, веревка, волочась, чертила на затуманенном светлом берегу след, сперва темный, потом отсвечивающий от прибрежной влаги.
«Ты меня унизила, никогда тебе этого не прощу», — вот и все, что он сказал перед тем, как толкнул меня. Но зачем же он махнул мне рукой из лодки? Звал к себе или хотел ободрить? Могла ли я, должна ли была вернуться, задержать его, изменить все как-нибудь или поплыть вместе с ним на лодке, но куда? К милицейскому посту в Хробжицах, чтобы успокоить Мигдальского, как он сказал чуть раньше, когда мы оба сидели на сетях? А потом куда? Он обронил что-то невнятное насчет сегодняшнего гостя, насчет майора и каких-то его внушений. А может, он все-таки вернется? Разве так уходят навсегда, так легко, кое-как — с одним-единственным тощим рюкзаком, словно бы на экскурсию? Может быть, мой пафос совершенно излишен? Видишь, Иза, я еще не пришла в себя от первого умирания, но уже вслепую ищу надежду. Так нельзя. Подтверди, что нельзя, это меня поддержит. Нет, Иза, тебе не успокоить моего разлада — слишком ты далека от этого берега, от этой ночи и от этого прощания.
Удивление. Но ведь неправда, что сильнее всех удивляются дети. Сейчас я догадываюсь, что чем больше мы знаем, тем чаще и сильнее удивляемся. Значит, я уже не такая молодая, какой была еще сегодня там, на берегу. Или же каким-то одним из многих возможных способов во мне умерла впервые некая часть молодости. Иза, Иза! Я одна. Я боюсь.
Но прошло и это мгновение, еще одно мгновение, очень тяжелое. Я существую, я мыслю. Обдумываю письмо к тебе. Тоже весьма странно, что в такую минуту и именно к тебе. Может, впрочем, оказаться, что много дней спустя я тебе и вправду напишу. Пока еще не знаю, о чем и как. Я ведь не расскажу тебе всего этого словами, об этом я могу рассказывать только в мыслях. Но я все-таки напишу, должна написать. Скажи Стаху, что я очень рада его успеху в институте, в самом деле, а еще больше рада другому.
Читать дальше