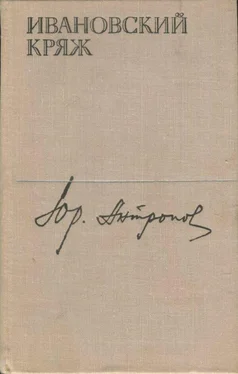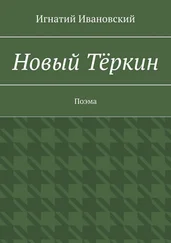Маленький, но крепкий когда-то в кости, резкой отесанностью лица и чернявой чубатостью удался он в своего деда Ераса, который дожил до ста лет и любил Устина больше всех внуков за эту похожесть на него самого — молодого. Сквозь неземную какую-то поволоку в синих глазах приглядываясь иной раз к Устину, он глухо говорил — как бы из-под земли:
— Вылитый мой тятенька, а я, сказывали, весь в него уродился… — непрямо устанавливал он эту отрадную для него похожесть. — Только, однако, ты поукладистее нас получился, матерьяла не хватило — посуше да пожиже. А такой же востроносый и твердобородый, и глаза нашенские.
В молодости, когда Устин еще ухаживал за Липой, молчаливой девахой с конопатым лицом и зеленоватыми глазами, он любил, бывало, пофорсить: лаковый козырек праздничного картуза сливался по цвету с волнистым чубом на лбу.
— Притушим маленько, — смеялся он, — лисью твою породу. А то разгораешься по весне, не знаешь прямо, куда и деваться от этого огня.
А когда поредели в последние два года его волосы и будто закуржавились белой изморозью, Липа, потешая Аверьку, стала подзуживать теперь над ним:
— Вот тебе и лисья порода… Сам белесый сделался, как русак в чернотроп!
Устин, бывало, дулся на них за эти насмешки, но теперь он дорого бы дал за то, чтобы снова увидеть своего кума, услышать его раскатистый, на весь лес, голос. Если бы знать тогда, в тот последний раз, посидел бы с ним сколько-то, успокоил бы как мог, а то посмеялся над его суеверием, которым Аверька никогда не отличался, взял скобы для омшаника и уехал, толком не простившись.
Да ладно, если бы уехал. А то завернул, как на грех, в сельпо — купил впрок несколько буханок хлеба, Липа наказывала, и тут-то Аверька догнал его. Примчался в деревню на мотоцикле.
— Возьми, кум! — принародно он протягивал Устину заветную, редкой работы, наборную уздечку. — Пускай на память тебе останется…
— Да ты что?! — опешил Устин.
— Бери, бери…
И все, кому случилось в эту пору быть в сельпо, затаились, норовя задержаться у прилавка, чтобы постигнуть до конца небывалое это событие. «Вот дивля так дивля! — шептались бабы и мужики. — Безо всякого отдает Аверька свою уздечку Пихтовому Сучку!»
Уже давняя была эта история с уздечкой Аверьяна. А началась она с того, что Аверьян заприметил стройную ладную лесину для своих столярных поделок. Глаз его пал на матерый кедр, испокон веку стоявший в верховье Гаврина ключа, где обосновался с пасекой Устин. «Рядом же с дорогой, кум, — уже как бы прицеливаясь к ней взглядом, на какую сторону валить, сказал однажды Аверька. — Вывезу ее по частям, без хлопот. А с лесхозом дело улажу, заплачу им по билету сколько надо, заботы твоей здесь не будет». Но Устин вдруг заартачился: «Кедрину рубить не дам». — «А ежели все по закону? Я же не утайкой, чего ты ерепенишься!» — «Все равно не позволю. Только подступись — крупной солью жахну по мягкому месту из обоих стволов!»
Слово за слово — переругались кумовья дальше некуда. Наезжая время от времени на пасеку на своем мотоцикле, Аверьян, захмелев, начинал куражиться, дразня Устина Пихтовым Сучком — за маленький рост и кривоватые ноги.
— Умирать буду, — хлопал он себя по широкой груди, — всем сучочкам прощу, а пихтовому — ни в жисть! В самый неподходящий момент возьмет да и выкрошится, сделает на гладком оструганном месте дыру.
— Это же еловый такой супротивный, — с улыбкой вставлял Устин, но Аверька стоял на своем: пихтовый, и все тут!
— Вот и ты такой же супротивный — жалеешь дерево, будто оно живое.
— А оно живое и есть.
— Ну раз этот твой кедр живой, как ты говоришь, я на самую макушку ему побрызгаю!
И однажды ударили они по рукам. Долго терпел Устин эти выходки кума, да соблазненный коленчатым бичом с кисточками, который тот возил с собой как подманку, поставил-таки условие:
— Если сварганишь все, как задумал, — дерево твое, раз само допустит такой позор. А если промахнешься, не дотянешь хотя бы на вершок, то оставляешь бич у меня!
Крепко верил Устин в этот высоченный кедр, который, судя по всему, был ровесником тем его предкам-староверам, которые бежали сюда из равнинной России. Уж такая свечка тянулась к небу — голову поднимешь, чтобы на вершинку глянуть, и шапка с головы падает! И ничего не вышло у Аверьки с окаянной его задумкой: хрустнул под ним верховой сук, и, если бы нижние могучие ветви не задержали его, не спружинили, на том бы и кончился их спор. Отделался кум легко — сломал себе обе ноги, да одна-то срослась хорошо, как тут и была, а вторая долго болела, лежал Аверька и в районной больнице, и в областной, и в конце концов обзавелся он костыльком — срост оказался неудачный, нога заметно окоротилась.
Читать дальше