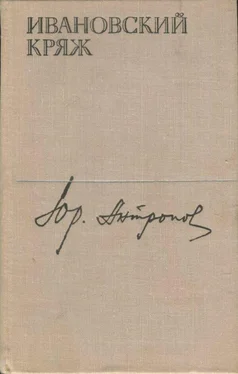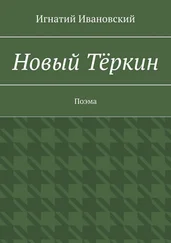Перед утром в морозном чутком воздухе было явственно слышно, как что-то надсадно вздыхает, сипит, ухает в той стороне, где играют сполохи света. Одно и то же повторялось каждую ночь, тревожа душу своей потаенностью.
На этот раз Иван Игнатьевич пробудился еще раньше, чем накануне. Похоже, что он и во сне слышал какой-то гуд.
«Может, это старость-то и приходит? — мелькнула у него мысль. — Раньше ведь ничего такого вроде не наблюдалось за мной, чтобы по ночам прислушиваться. Сказать Ане — высмеет…»
С неохотой отстраняясь от теплого бока жены, Иван Игнатьевич тихонько поднялся, стараясь не скрипеть кроватью. Пока ноги сами собой нашаривали шлепанцы, он пытался угадать по синему, в мерцавших блестках, стеклу с махровыми разводьями куржака, который теперь час и сильный ли стоит мороз.
Подойдя к окну, Иван Игнатьевич долго дышал на стекло, делая проталинку. Сквозь крохотный пятачок, который тут же норовило схватить ледком, он глянул одним глазом на улицу. Стыло оцепенели в палисаднике голые, подернутые изморозью яблоньки. Совсем неживыми выглядели они под матовым светом луны, тоже окоченевшей за ночь, которой не было конца. Нигде ни огонька. Казалось, уже и не отогреться всему живому. Только над заводом и полыхало зарево, высвечивая трубы и шлаковый террикон, издали похожий на окатистую сопку после пожара. Вот будто бы из нутра этой черной махины, как мнилось по ночи, и возникал берущий за душу звук, перехлестывал через ограду и знай себе гулял по притихшему городу. Хочешь — слушай, а хочешь — спи спокойнехонько, не так уж это и докучливо, если по правде-то.
«У Ани вон спроси, — подумал он о жене, чувствуя спиной ровное ее дыхание, — так еще и не поймет, о чем это идет речь».
— Ты чего вскочил? — Легкая на помине, зевнула она спросонья.
— Спи, спи. Я так просто.
Ивану Игнатьевичу до того стало неловко, будто невесть что он сделал на виду у людей. Для отвода глаз протопал в ванную, пошумел там водой, но, когда вернулся к постели и, еще не успев лечь, услышал, что жена опять запосапывала, снова тихонько подошел к окну.
— Ты чего полуночничаешь? — По ее голосу Иван Игнатьевич понял, что она и не собиралась засыпать.
«Еще притворяться вздумала!» — хотел было он упрекнуть жену, маскируя свое смущение, но вместо этого покорно вернулся, присел на постель с краешку, посидел ссутулившись, зажав руки меж колен, и сказал:
— На пенсию, наверно, выйду нынче.
— Что это ты? — удивилась Аня.
— Ничего. Мне ж скоро шесть десятков исполнится, — ровным голосом произнес Иван Игнатьевич, словно думал об этом уже не раз и не два и давно привык к такой мысли.
Аня озадаченно притаилась. Сроду не водилось промеж них такого, чтобы обсуждать, сколько кому исполнилось лет и что из этого вытекает. Жили и жили. Справляли, конечно, друг дружке именины, все как у людей, и каждый помнил, само собой, с какого кто года, но чтобы вслух подсчитывать свои лета…
«Приболел он, что ли?» — встревожилась она.
— На здоровье пока что не жалуюсь, дело не в этом, — будто угадал он ее мысли, — хотя глаза и барахлят маленько. Еще бы! Столько простоять у печей, — стал он уже и оправдываться, — да это какие глаза надо, чтобы не повредились от огня? Сама посуди. Но ты не пугайся, — живо обернувшись, Иван Игнатьевич с игривостью похлопал жену по плечу, — еще ничего мои гляделки, смотрят пока что, насквозь тебя вижу.
— Чего ты меня насквозь видишь?
— А то. Как ты с Петром Малюгиным перемаргиваешься, когда в карты играем.
— Мелешь, че не надо…
Иван Игнатьевич, довольный своей шуткой, с нарочитой громкостью расхохотался на всю комнату, чтобы жена, чего доброго, не подумала, что он и впрямь ревнует ее к соседу.
— Тише-то не можешь? — одернула она, все же, судя по голосу, заметно сконфузившись. — Нашел время в хохотунчики играть. Ребятишек разбудишь.
«Их разбудишь, как же! — Иван Игнатьевич на мгновение представил, как спят беззаботно в смежных комнатках Бориска и Наташка. — Их и пушкой не подымешь с постели».
Он побурчал по тому поводу, что младший сын и меньшая дочка всю жизнь, видно, будут для матери ребятишками, хотя вымахали уже под потолок. Парню в армию скоро, уже восемнадцать стукнуло, а девица-молодица тоже с паспортом, вполне взрослые люди.
Конечно, если рассудить, ничего особенного в том не было, что мать все-то называет их ребятишками, дети есть дети, сколько бы лет им ни было, но Ивана Игнатьевича порой брала обида за старших, за Марию и Вениамина, которые давно жили отдельно, со своими семьями. Ведь их-то, большуху и большака, мать перестала звать ребятишками еще тогда, когда они подростками пошли на завод — Марию взяли ученицей в химцех, а Веньку удалось пристроить к слесарям. Рано стали работать, время тогда выпало такое, и жалко было отцу своих старших детей, и порой он укорял, правда, мысленно всякий раз, своих последышей, что жизнь им досталась куда более легкая и они плохо знают ей цену.
Читать дальше