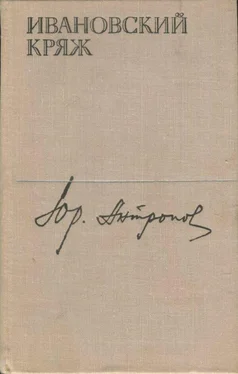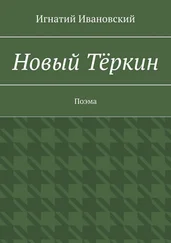— Зачем?! — выпучил глаза Агейкин.
— Как зачем?
— У человека дыхалка не работает, легкие и бронхи, видно, ни к черту, а он табаком загрузился! У тебя ум был?
— А как же! Был и есть. — Иван Игнатьевич отправил в ноздри еще по одной щепотке. — Я ж еще до врачей пробовал бросить курить. Брошу, целый день в рот не беру, креплюсь — думаешь, легче? Кашлем весь изойду. Еще хуже делается. Махну рукой, запалю самокрутку — куда и кашель подевается.
— Так это поначалу только.
— Хорошо хоть поначалу. А то ведь никакого перерыва.
Агейкин усмехнулся:
— Ну и дальше?
— А дальше что? Запрятал я наволочку с махрой под матрац. Курю втихаря. Наберу сколько надо, уйду в бор — и дымлю себе. Отдыхаю. Неделю так отдыхал, пока врач не застукал. — Иван Игнатьевич оживился. — Учуял, видно, что я контрабандой занимаюсь, выследил меня в сосняке и заявляет: «Либо бросите курить, либо мы вас отправим назад и на завод сообщим, что выгнали из санатория за нарушение режима». Во, извольте радоваться! — Иван Игнатьевич развел руками и засмеялся. — Что тут будешь делать? Я этому врачу и заявляю: так, мол, и так, отвыкнуть от курева не имею никаких сил, потому как мошка проклятая замучила.
— Какая мошка? — Агейкин перестал хрупать леденцами.
— Маленькая. Как точечка. Перед носом летает и летает. Я бегаю, бегаю за ней глазами, а она то налево, то направо. Аж голова закружится. Хоть ложись и помирай.
Видать, хоть и был Агейкин курильщик заядлый, а ни про какую такую мошку и слыхом не слыхивал. Вначале он думал, что Комраков его разыгрывает, но потом убедился, что все это истинная правда. Летала мошка. Ее, похоже, и сейчас видел перед собой этот мученик — снял очки и, растерянно помаргивая, водил глазами туда-сюда.
— Летает? — участливо спросил Агейкин.
— Не, теперь не так. То вроде бы появится, опять замельтешит, а то день-другой нету. Я теперь от нее нюхательным табаком спасаюсь. Как появится — я сразу нюхну. Куда и девается!
— Хм… — искренне подивился Агейкин. — А у меня никакой мошки не было, а не могу отвыкнуть от папирос, и все тут!
— И все сосешь конфетки?
— Сосу. Куда денешься? Надо отвыкать от дурных привычек. Все так говорят.
— Мало ли что говорят! У меня вот на что угодно силы хватает, как втемяшится что в голову, — не я буду, если не одолею! А вот насчет курева не могу. Тут я бессильный. Что хошь со мной делай! Я ж, считай, с малолетства курю, с детдома.
Агейкин вспомнил, что рассказ Комракова остался незаконченным.
— Ну и как же потом было, в санатории-то?
— А так и было, как врач сказал. Выписали меня досрочно и на работу сообщили. С тех пор ни в одном санатории не бывал. И от гармошки избавился. Старуха одна надоумила.
— Это как же?
— А так. Ходил я, ходил по врачам. Не хуже тебя. Один одно прописывает, другой — другое. До того долечили меня, что однажды заявляют: лечись, мол, не лечись, а хрипеть будешь всю жизнь. Хроническое, дескать. Ну, я вышел из больницы, сел на крылечко, и до того мне обидно стало — заплакал. Сижу и плачу. А тут бабка одна идет. Техничка из конторы. Подходит и спрашивает: чего, говорит, сыночек, ревешь? Я ж тогда моложе был, — смутился Иван Игнатьевич, но Агейкин и не думал ухмыляться по тому поводу, что его, Комракова, техничка назвала сыночком. — Ну, взял и рассказал ей про свою гармошку. А она меня и надоумила. Возьми, говорит, купи керосину и пей его по столовой ложке три раза в день перед едой.
— Пить керрросин?!
— Ну! Удивляться тут не приходится. Народная медицина. Исключительно помогло! Я с тех пор, можно сказать, совсем другим человеком стал. Она же, старушенция эта, и насчет мошки мне подсказала.
— Насчет той самой? — Агейкин поводил рукой перед своим лицом.
— Ага. Ты, говорит, сынок, махорку брось чадить, один вред от нее, а вот лучше нюхай-ка! И достает из кармана жакетика вот эту самую табакерку… — Иван Игнатьевич бережно подержал на раскрытой ладони темный пузырек, а потом так же осторожно закрыл его бумажной пробкой и спрятал в карман. — Вот с тех пор я и горя не знаю. Пока Аня не придумает, с какого бока ко мне подступиться. За курево-то она ох как жучила!
— Ничего, придумает, — заверил Агейкин. — Они на это дело ушлые. И ведь ты скажи! И что за характер у баб? Ну, когда за дым грызут — это понятно. Копоть на тюле, то-се. А нюхательный-то табак чем им в тягость?!
И такое неподдельное сочувствие прозвучало в голосе Агейкина, что Иван Игнатьевич смешался. Куда и девалась у него охотка поточить с этим Агейкиным лясы! Прямо хоть тут же уходи из проходной. Получалось так, что это не он Агейкина пожалел, а тот проявил к нему свою жалость. А чего его, рабочего человека, жалеть? Разве он такой же беспомощный, никудышный, никому не нужный, как сам Агейкин? Ничего подобного! Время его еще не пришло. Может, он до семидесяти лет не пойдет на пенсию. Вон главный бухгалтер, например, и не думает уходить с работы, ему на вид и не дашь столько. Правда, главный-то бухгалтер всю жизнь за чистым столом просидел, у печей не стоял, но и он, Комраков, на свое здоровье пока что не жалуется. Вот Агейкин расклеился по всем швам — это да. Ушел на пенсию — и весь год по больницам бегал. Вот за это-то и пожалел его Иван Игнатьевич, больше ни за что, хотя жалеть его и не следовало. Вернись Агейкин обратно в плавилку, к печам — и здоровье свое так-то не подорвал бы, как на безделье. Только из-за этой внезапной жалости к горемыке Агейкину он и затеял пустые росказни про табак, леденцы да про мошку. И в точку попал — тот оживился малость, забыл на время про свою печаль и даже над ним, Иваном Игнатьевичем, подтрунивать начал, а под конец, извольте радоваться, поменялся с ним местами: его, Комракова, решил пожалеть!
Читать дальше