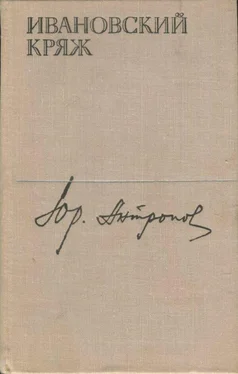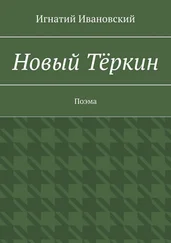— Ну и… куда ты с этим пакетиком? — Ему стало жалко Агейкина. А может быть, он в первую очередь пожалел самого себя — не нынешнего, а того, который скоро тоже выйдет на пенсию.
— Да куда!.. В районную больницу и подался. Куда еще? Там всех принимают. Правда, чтобы высидеть очередь, надо здоррровым приходить.
— И ты так и промучился всю осень?
— А куда денешься…
— Да взял бы и пришел ко мне! Так, мол, и так, Иван. Обсказал бы все. Я бы тебе адрес дал крымский. Там у меня родня на курорте. Брат Наум с женой Таисией и старшая дочь Мария с сыном Игорьком. Она поначалу-то здесь же, на комбинате, работала, ко мне в плавилку частенько заглядывала. Может, помнишь? Курносенькая такая, круглолицая, вся в меня.
Агейкин пожал плечами, мотнул головой:
— Нет, не помню.
— У них там хоть и тесновато с жильем, в казенных комнатках живут, но ведь земляки же! Не отказали бы, чего там.
— Спасибо, конечно… Но какой уж теперь курорт… Мертвому припарррки! — как-то перекошенно улыбнулся Агейкин, отчего казалось, что левая его щека со шрамом вот-вот расползется по шву.
Иван Игнатьевич, нахмурясь, потоптался на месте и вытащил из кармана пузырек с табаком.
— А я на леденцы перешел, — виновато улыбнулся Агейкин, догадываясь, видно, что творится сейчас с Комраковым. — Кисленькие такие. Мон-пан-сье называется, — произнес он по слогам.
«Монпансье… — вздохнул Иван Игнатьевич. — Надо бы кислее, да некуда. Извольте радоваться! Это если так с каждым пенсионером… в пакетик с бечевочкой… то я не знаю тогда, стоит ли вообще жить, испереязви их!»
— А я все нюхаю, — вроде как бодро хохотнул он. — Уж с тонну, наверно, вынюхал этого табаку!
— Бррросать надо. — Агейкин нагнулся к старой кирзовой сумке, стоявшей в углу за табуретом, и достал из нее пачку папирос «Беломорканал».
Иван Игнатьевич, держа свой табак на раскрытой ладони, уставился на Агейкина: мол, как это тебя понимать, говоришь, на леденцы перешел, бросать курить надо, а сам папиросы-деруны старой марки наяриваешь, без всякого там фильтра, весь яд и прет в легкие.
Агейкин слегка надорвал пачку и вместо папироски выколупнул розовое глянцевое сердечко. Леденцы там и были, в этой бумажной таре из-под табака!
— Во придумал! — восхитился Иван Игнатьевич. — Ну, мопасье! Ох, поздно ты свое изобретение обнародовал, — простодушно посетовал он, — а то бы я так и прозвал тебя: «Мопасье».
— Не мопасье, а мон-пан-сье, — поправил Агейкин.
— Какая разница! Главное — в точку бы попал.
— Тебя, Комраков, тоже ведь прррозвали… — ржавым голосом сказал Агейкин.
— Старой Графиней, — как ни в чем не бывало поддакнул Иван Игнатьевич.
— Ага, Старой Графиней.
Иван Игнатьевич легко засмеялся и махнул рукой. Дразнитесь, пожалуйста! Лично он ничего не имеет против. Это если бы кто другой, со стороны, дал ему прозвище, может, и было бы обидно, а то ведь он сам умудрился, так что удивляться не приходится. И Малюгину Головастика приклеил, и себя Старой Графиней окрестил, и про Монпансье сообразил, правда, жалко, что поздно. Да ведь потому и поздно, что раньше-то Агейкин леденцы не сосал, а курил табак, как заправский мужик.
— Кто ж это тебя надоумил? Насчет того, чтобы в папиросной коробке?
— А наш парторг.
— Парычев?!
— А кто ж еще? Он. Сам, говорит, отучивал себя таким макаром. Рефлексом, по-ученому. Организм просит курева, дыма этого вонючего, к которому ты с детства привык из-за людской дурости, а ты ему — ррраз, организму-то, пачку папиросную! Подсовываешь, значит, а он, организм-то, отзывается: давай, давай, не тяни! — Агейкин возбужденно потряс пачку, высыпая на ладонь слипшиеся леденцы. — Ты и даешь ему: соси, насасывай! Вернее, грызи, ломай зубы и думай, что куришь. Кто кого перрреборет! — Он яростно захрупал, перемалывая на зубах ненавистные карамельки, с трудом проглотил, судорожно двинув кадыком, и победно рассмеялся. — Вот так ему, вместо курррева! Раз попросит, два попросит, а потом откажется, никуда не денется. Тут тебе и сладко, и горько…
Иван Игнатьевич подивился про себя этой ярости Агейкина: «Вот тебе и тихий… Это он тихий, когда ему на любимую мозоль не наступаешь. А как что за живое задело — раскочегарится, не уймешь! Сам с собой вон как развоевался. А ведь ни в цехе, ни на собрании каком ни разу так не кипятился. Вот как в человеке все это уживается, сам себя толком не знаешь».
— Тяжело тебе, однако, — сочувственно вздохнул Иван Игнатьевич. — Тут хоть две тонны слопай этик конфеток — организм не обманешь. Я вон тоже курил когда-то. Ух и садил! Исключительно. Страшно вспомнить. Да и не какие-нибудь папироски, а махру, самую едучую выбирал. В санаторий меня однажды послали. В легочный, — стал вспоминать он, с шумом втягивая в ноздрю добрую щепоть бурого табаку. — Путевку бесплатную дали. От комбината. Санаторий хороший, недалеко тут. «Боровое» называется, знаешь, поди. У меня в тот год совсем плохо с дыхалкой стало, — Иван Игнатьевич стукнул себя по груди, заодно обтерев о тужурку пальцы, перепачканные табаком. — Играет и играет гармошка. Вдыхаю с хрипом и выдыхаю с хрипом. А родни на юге никакой не было. Брат Наумша в другом месте жил. А Мария тут, дома. Ну, поехал я в это самое «Боровое». Захватил с собой половину наволочки махорки.
Читать дальше