— Родинка? — рассмеялась Жемчужникова. — Да уж, с родинками ты совершенно прав. И с потерей памяти тоже. Но есть кое-что посерьезней родинки, мой мальчик. Кое-что такое, чего никак не отрастишь, если тебе отрезали это на восьмом дне жизни.
Наташа понимающе закивала.
— Вы имеете в виду…
— Конечно, Наташенька! Брит мила! Наум Григорьевич был обрезан, как и все его сверстники-евреи. А тот, кто в 56-м вернулся с Колымы, при всей его внешней похожести на Наума, был гоем. Необрезанным гоем. Чего, согласитесь, женщина никак не может не заметить.
— Да уж… И она сразу рассказала вам?
— Не сразу, но рассказала. Видите ли, мы ведь ждали его, как евреи своего мессию. Ждали все эти годы. Лиза ждала мужа, Ниночка — отца, а я — близкого маме человека, последнего, кто видел ее там. Он писал нам такие потрясающие письма… такие письма… У человека был несомненный литературный талант. Игорёк, ты ведь, наверно, читал…
— Да, — глухо ответил доктор Островски, — мама потом зачитывала эти письма вслух, уже после смерти деда… Видите, я до сих пор зову его дедом.
— Вот именно! — воскликнула Ревекка Ефимовна. — Он писал нам, мы — ему. И, знаете, я уверена, что эта переписка влияла и на него. Сами подумайте: Колыма, ужас лагерей, смерть, холод, нечеловеческий быт. И среди этого — письма тоскующей по тебе жены, детские каракули беззаветно ждущей тебя дочери. Как это может не влиять? И вот он уже ждет этих писем, как манны небесной. Он уже счастлив, когда они приходят. И, отвечая на них, пишет о своей тоске, своей любви — уже совершенно искренне. Это так понятно, так по-человечески…
— По-человечески… — повторил Игаль, словно пробуя это слово на вкус. — Но что произошло между ним и бабушкой? Неужели она притворилась, будто ничего не заметила?
— Нет, конечно, нет. Она сразу призвала его к ответу. И он сразу рассказал ей все, с самого начала.
— Он назвал ей свое настоящее имя?
— Нет, не назвал, хотя Лиза настаивала. Зачем? Так он говорил: зачем, мол, тебе это имя? Оно все равно ничего тебе не скажет. Кроме того, за прошедшие годы он настолько сроднился с Наумом Григорьевичем Островским, что уже не мыслил себя кем-то другим. Он воевал в Испании, на юге страны — по-моему, в Андалусии, был там арестован, и Наум приехал допросить его от имени республики. Знаете, там ведь была очень сильна фашистская пятая колонна. Наверно, этот человек тоже работал на фашистов. И вот, Наум Григорьевич во время следствия обратил внимание на их поразительное внешнее сходство. Они и в самом деле очень похожи, если сравнить фотографии.
По словам двойника, в конце 37-го Наум Григорьевич забрал его из тюрьмы, сказав, что везет на очную ставку с подельниками. Но никакой очной ставки не было; человек утверждал, что Наум специально спланировал свой побег. Зачем спланировал, можно догадаться: до него дошли известия об аресте моей мамы, его ближайшей сотрудницы и друга. Видимо, Наум Григорьевич полагал, что не за горами и его собственный арест. На каком-то безлюдном шоссе он остановил машину, заставил двойника выйти, раздеться догола и поменяться с ним одеждой. А потом сразу расстрелял и бросил в канаву. Человек уверял, что ему сказочно повезло. Он упал лицом вниз, и когда ему выстрелили в голову, чтобы добить наверняка, не обратили внимания, что пуля прошла по касательной. Дырка во лбу была бы сразу видна, а так из-за волос не очень заметно…
Второй раз ему повезло, когда его вовремя обнаружили и отвезли в больницу. На теле раненого нашли документы на имя Наума Григорьевича Островского. Документы, внешнее сходство… — чего еще? В сознание он пришел уже в Одесском госпитале, где все называли его товарищем Островским. По сути, у него не было выбора — не признаваться же, что ты подследственный фашист…
Но на этом везение кончилось; как только двойник встал с койки, его стали таскать на допросы — уже как Островского, обвиняя в шпионаже. А он, понятное дело, не знал о прошлом Наума Григорьевича ничего, кроме того, что тот следователь НКВД. И двойник имитировал потерю памяти из-за ранения. С ним еще какое-то время возились, и он подписал все, что от него требовали. Думаю, еще и радовался кого-то оговорить, кого-то оклеветать. Фашист есть фашист. В конце концов, его отправили на Колыму. Бывает ведь так, ирония судьбы, да? Настоящего фашиста осудили по ложному обвинению в фашизме! И уже там, на Колыме, он встретил мою маму…
— Вашу маму? — переспросил доктор Островски. — Брониславу Михайловну? Но как? Разве женщины и мужчины сидели вместе?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)

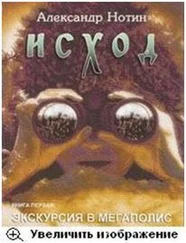

![Алексей Сальников - Опосредованно [журнальный вариант]](/books/423483/aleksej-salnikov-oposredovanno-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)
![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)
