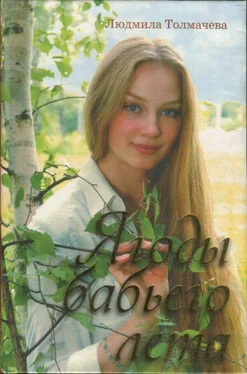— Нет, так нельзя! — возразила Люба и решительно открыла дверь в комнату Серафимы Григорьевны.
— Нинель Эдуардовна, разрешите… — начала Люба и осеклась.
Врач в это время измеряла давление Таисии Игнатьевне, а медсестра готовила шприц для укола. Серафима Андреевна лежала на кровати, укрытая с головой одеялом.
— А что с Серафимой Григорьевной? Она… — замерла Люба, боясь произнести страшное слово.
— Она умерла. Выйдите отсюда и закройте дверь! — приказала Нинель Эдуардовна.
— Любаша, ты зайди потом, — слабым голосом попросила Таисия Игнатьевна.
Люба не могла больше находиться в помещении. Слезы душили ее. Она вышла в парк и побрела между деревьями, не разбирая дороги. Ноги сами привели ее к детскому дому. Без сил она опустилась на скамейку и попросила проходившую мимо девочку позвать Аню. Вскоре в дверях показалась Аня. Она улыбнулась, увидев Любу, но тут же ее личико вытянулось, глаза беспокойно округлились. Подойдя ближе, она тихо спросила:
— Почему вы плачете? У вас горе?
Люба не ожидала от этой застенчивой тихони такой смелости в проявлении сочувствия. Она закрыла лицо платком и снова заплакала. Аня села рядом и стала по-детски неумело поглаживать по плечу плачущую женщину. Люба вытерла слезы и, всхлипнув, сказала:
— Пойдем. Надо походить. Тогда станет легче.
— Пойдемте.
Они медленно шли по улицам вечернего Сергино. Ни рекламные щиты и растяжки, ни иномарки у подъездов, ни кричащие вывески кафе — никакие атрибуты цивилизации не нарушали общей картины размеренной, неспешной жизни городка. Как и сотню лет назад, кружили над куполами церквей голуби, манили спелыми боками наливные яблоки в садах, сидели возле палисадников старушки и еще не старые женщины, судача обо всем на свете, перебегали улицу собаки. А Люба с Аней шли куда глаза глядят и разговаривали. Несмотря на неутихающую боль от того, что Серафима Григорьевна лежит неживая, что не скажет больше ласковое «Любочка», не посмотрит своим добрым и понимающим взглядом, в Любиной душе постепенно воцарились покой и смирение перед судьбой. Она рассказывала девочке о Серафиме Григорьевне, о себе, о том, как она оказалась здесь. Аня слушала, не перебивала, лишь изредка восклицала: «Ой!» или «Правда?»
Возле кинотеатра они заметили Дашу в компании с какими-то парнями. Как и в прошлый раз, по рукам ходила бутылка пива. После очередного глотка Даша подносила ко рту сигарету, затягивалась и, выпустив клубы дыма, звонко хохотала.
— Сколько лет Даше? — спросила Люба.
— Тринадцать.
— А откуда у них деньги на сигареты и пиво?
— Она дружит с мальчиком из другой школы. У него есть родители.
— Прости за нескромный вопрос: а у тебя есть мальчик?
— Сейчас нет. В позапрошлом году его забрали в суворовское училище.
— И что, вы не переписываетесь?
— Нет. Он, наверное, в Москве с кем-нибудь познакомился.
— Тебе покажется странным мой вопрос. У вас многие девочки ругаются матом?
— Да, многие. Почти все.
— А ты?
— Иногда. Но не так, как Дашка. Она любого парня забьет. Если парень не умеет материться, значит, лох.
— Это твое мнение?
— Нет, Дашкино.
Любу задело, что Аня говорит о таких вещах спокойно и обыденно.
— Ты знаешь, Анечка, я ведь тоже через эту напасть прошла.
— Какую?
— В девятом классе вдруг на меня нашла дурь — мне непременно захотелось быть похожей на парня. Я пробовала курить, залихватски пила вино на вечеринках, отпускала грубые шутки, короче говоря, выпендривалась перед одноклассниками. Мне хотелось, чтобы меня считали «своим парнем». Но потом это прошло. Как детская болезнь, ветрянка или корь. Я поняла, что женщина должна оставаться женщиной во все времена, в любом возрасте. А та, что «косит» под мужика, выглядит жалко и смешно. Ты не согласна со мной?
— Почему? Согласна.
— Я вижу, что ты поскучнела, — улыбнулась Люба. — Больше не буду говорить на эту тему. Ничего, все это придет к тебе, позднее, но придет. Ты умница и уже сейчас многое понимаешь. А с возрастом мы все мудрее становимся.
Не заходя к себе, Люба прошла к комнате Таисии Игнатьевны, постучала и услышала слабое «войдите».
Старушка обрадовалась Любе, даже попыталась подняться с кровати.
— Лежите, лежите. Я посижу рядом.
Люба села на стул, стараясь не смотреть на пустую, с голым матрацем, кровать Серафимы Григорьевны.
— Ох, Любаша, тяжко мне, ты и не представляешь. Я надеялась, что Сима еще поживет. Она ведь как сестра мне, как родная.
Читать дальше