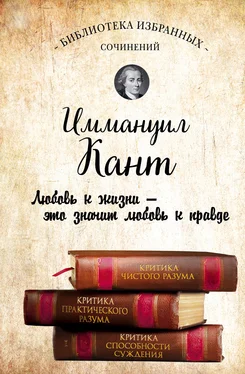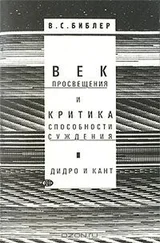Категории суть понятия, предписывающие априоризаконы явлениям, а с ними и природе как совокупности всех явлений (natura materialiter spectata). Спрашивается, из чего же следует то, что природа должна сообразоваться с нашими законами, что законы не выводятся из природы, как их первообраза (иначе они были бы только опытными), т. е. возникает вопрос, каким образом категории могут априори определять соединение разнообразных черт природы, не заимствуя их из нее? Здесь вся суть вопроса.
Что законы явлений в природе должны согласоваться с рассудком и его формой априори, т. е. способностью вообще соединять разнообразные черты, – это не более странно, как и то, каким образом явления должны согласоваться с формою чувственного представления априори. Законы не существуют в самих явлениях, но только наблюдаются лицом, которому что-нибудь является как существу разумному; и явления не существуют сами в себе, но могут существовать только для такого существа, которое одарено внешними чувствами. Конечно, можно согласиться, что вещам самим в себе присуща законосообразность, независимо от познающего их рассудка. Но явления суть только представления вещей, о которых мы не знаем, что они такое сами в себе. Как представление, они должны подчиняться тем законам сочетания, какие предписываются соединяющею способностью. Воображение именно соединяет разнообразные черты чувственного представления; но и оно зависит со стороны единства синтеза от рассудка, со стороны синтеза наблюдения – от чувственности. Так как от синтеза наблюдения зависит всякое возможное восприятие, а самый опытный синтез от трансцендентального и, следовательно, от категорий, то, значит, все восприятия, а с ними все относящееся к опытному сознанию, т. е. все явления природы, должны зависеть от категорий; от них зависит природа вообще; ибо в них заключается первоначальное основание, по которому мы приписываем ей законосообразность (как natura formaliter spectata). Однако нужно заметить, что зависимость эта ограничивается только общими законами природы как совокупности явлений в пространстве и времени. Так как частные законы касаются определенных опытных явлений, то они не могут быть выведены, хотя и они подчинены общим законам. Требуется опыт, чтоб узнать их; первые же общие законы доставляют нам сведения о самом опыте и познаваемых в нем предметах.
§ 27. Результат вывода чистых понятий рассудка
Без категорий мы не можем мыслить предмета, без соответствующих им наглядных представлений не можем познавать мыслимого предмета. Наглядные же представления все чувственны, и познание, основанное на них, есть опытное. Но всякое опытное познание называется опытом. Следовательно, познание априори возможно только о предметах опыта.
Однако познание, ограничивающееся предметами опыта, нельзя поэтому одному считать заимствованным из него; как чистые представления, так и чистые понятия рассудка, очевидно, следует считать элементами познания, находящегося в нас априори. В двух только случаях возможно согласие опыта с понятиями: или опыт улавливает понятие, или, наоборот, последние улавливают его. Первый случай невозможен относительно категорий (равно как и относительно чистого чувственного представления); ибо они суть понятия априори, следовательно, независимы от опыта (допускать опытное происхождение их значило бы признавать некоторый род generatio aequivoca). Остается второй случай, а именно что категории заключают в себе условие возможности всякого опыта. Но каким образом они условливают опыт и какие основоположения развиваются из них в приложении к явлениям, это мы увидим в следующей части, трактующей о трансцендентальном употреблении способности суждения.
Может быть, возможен, кроме двух упомянутых случаев, еще третий; положим, категории не суть самодеятельно развитые априори принципы нашего познания; они не приобретены из опыта, но они могут быть субъективными, дарованными нам вместе с бытием, предрасположениями мысли; он так уже устроены Творцом, что совершенно согласуются с законами природы, с которыми имеет дело наш опыт (некоторый род предобразования чистого разума). Но такая мысль повела бы к тому (при такой гипотезе не видно, как далеко простираются эти предрасположения к будущим суждением), что категориям нельзя было бы приписать характера необходимости, существенной черты их понятия.
Например, понятие причины, указывающее необходимость следствия при известном условии, было бы совершенно ложно, если бы оно основывалось на какой-то субъективной необходимости поставлять опытные представления в причинные соотношения. Тогда я не мог бы сказать «действие соединено с причиной в самом предмете (необходимо)», но «я так устроен, что иначе не могу мыслить представление»; скептики не могли бы желать ничего лучшего; тогда все наши мысли будут низведены на степень чистой видимости, и найдутся люди, которые не признают в себе даже этой субъективной необходимости (по предположению, она должна быть сознаваема); ясно, что тогда невозможны станут вообще доказательства; можно ли спорить с кем-нибудь о том, что вытекает из одной его субъективной организации?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу