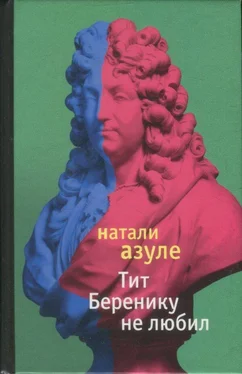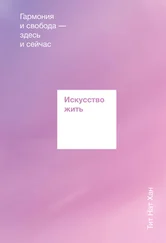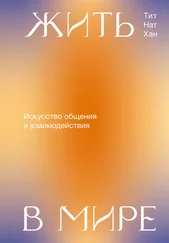Случается, в этих укромных местах его иногда застигает Тома.
— Запрещенная книга, смотрите!
Жан, сидевший под дубом, вздрагивает от неожиданности. Поднимает глаза на приятеля, но утыкается взглядом в коричневый томик у него в руках.
— Покажите!
Он выхватывает книгу, листает, читает вслух: «Лишь взглянула друг на друга молодая чета, так и влюбилась; души их с первой встречи познали свое родство и устремились друг к другу, как к достойному и сходному» [27] Гелиодор. Эфиопика, III. Перевод А. Егунова.
.
— Хватит! Тише! — испугался Тома.
Но Жан продолжает: «Глаза их долго и напряженно всматривались, словно они старались припомнить, не видели ли они где-нибудь друг друга и не знавали ль ранее».
Юноши сцепились неприязненными взглядами. У Жана перехватывает горло, но он читает дальше: «Потом, словно устыдившись происшедшего, они покраснели. И вдруг — думается, страсть проникла уже в их сердца, — они побледнели. Словом, в несколько мгновений выражение и цвет их лица менялись тысячу раз и взоры блуждали, обличая душевное потрясение».
— Вернемся. Это непристойно, — вымолвил Тома.
— У них от страсти побелели лица — будто деревья от удара молнии.
— Деревья от удара молнии чернеют.
— Но сначала белеют.
— Не думаю.
— По крайней мере, я их вижу так, — настаивает Жан.
Назад они шагают молча. Новая мысль забилась в голове у Жана: божьи дети дерутся и убивают друг друга за города и королевства, но они могут также с неодолимою силой друг к другу стремиться, как магнесийские камни.
Уже около самой школы Тома спросил:
— Вам стыдно, правда же?
— Ну да, — ответил Жан, чтобы он успокоился.
Через два дня Лансло нашел у Жана запрещенную книгу. «Роман! Роман!» — причитал он на весь коридор. Жану стало смешно, но он промолчал. Гелиодора у него изъяли, самого публично отчитали, а книгу было решено предать огню. И всех учеников созвали посмотреть.
Щеки Жана пылают. Шрам на лбу раскалился добела, точно кусок железа в горне, казалось, лицо вот-вот расплавится и потечет. Прямо напротив стоит Тома. Отблески пламени пляшут на его толстых румяных щеках. От этого жаркого мерцания исходит тепло и покой. Отныне Жан станет послушным, смиренным, любящим одного только Господа Бога. Никаких больше дерзостей и пререканий. Но в тот же вечер перед сном у него началась страшная рвота.
Он наклонился над тазом, который Амон поставил ему на постель. Дрожащий голос звучит гулко:
— Вот доказательство того, что душевное возбуждение переходит в телесное.
— Разумеется, греховное чтение чрезмерно вас разгорячило.
— Как любовь — героев романа.
— Это вздорный роман.
— Как вы думаете, может ли женщина краснеть или бледнеть от любви?
— Конечно, если это любовь к Богу.
— И лицо моей тетушки может вдруг стать пунцовым, как мак?
— От пылкой молитвы кровь приливает к щекам.
— А могут ли два создания божьих любить друг друга так же пылко?
— Этот пыл — лишь соблазн. Единственная истинная любовь — любовь к Господу Богу. Любить друг друга эти ваши двое могут только в Боге.
Жан обессиленно закрыл глаза. Прежде чем уснуть, он еще слышит, как ходит по комнате Амон, как звякают инструменты, которые он перекладывает, а слова Гелиодора постепенно меркнут. Бог даст ему силу забыть их совсем.
Прошла неделя, однако он не только не забыл их, но стал делать в тетрадях такие записи, которых не бывало прежде. Не рассуждения, не объяснения, а описания: пейзажа, изменчивого неба, лучезарного или мглистого солнца. Но лица и тела людей затрагивать не смел — не хватало Гелиодоровой дерзости. Он говорил лишь о погоде — ясной и ненастной.
Мало-помалу им завладевало желание писать, и гипотипоза теперь ни к чему — его ведь занимали не убийства и сражения, а цветущие долины, поля, сады, озера, птички.
— Не увлекайтесь воспеванием красот природы, не то уж слишком пристраститесь, — говорил ему Лансло.
Тогда Жан стал воспевать монастырскую тишину, уединение и благочестие, но педагоги разбранили и эти его сочинения. Они посовещались и вынесли совместное суждение: дело не в том, чему посвящены стихи, а в том, каковы они сами. Словом, лучше ему не посягать на поэзию. Лансло, желая отвратить его наверняка, безжалостно рубит:
— В поэзии вы не сильны.
Жан уязвлен, но скрывает обиду:
— Но это не поэзия, месье, это скорее живопись.
— Не играйте словами!
— Я не играю. Это просто наблюдения, мне нравится наблюдать.
Читать дальше