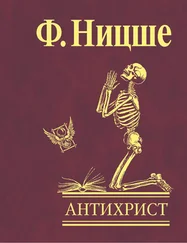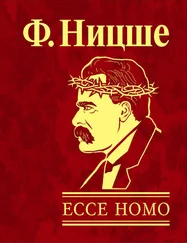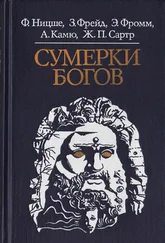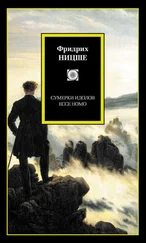3
Пронюхать в греках «прекрасные души», «золотые середины» и другие совершенства, удивляться, например, их спокойному величию, идеальному образу мыслей, высокой простоте – от этой «высокой простоты», этой niaiserie allemande в конце концов, меня предостерег психолог, которого я носил в себе. Я видел их сильнейший инстинкт, волю к власти, я видел их дрожащими перед неукротимой мощью этого инстинкта, – я видел, что все их учреждения вырастали из предохранительных мер, чтобы взаимно обезопасить себя от их внутреннего взрывчатого вещества. Чудовищное внутреннее напряжение разрядилось затем в страшной и беспощадной внешней вражде: городские общины терзали одна другую, чтобы граждане каждой из них обрели покой от самих себя. Необходимость заставляла быть сильными: опасность была близка, – она подстерегала всюду. Великолепно развитое тело, смелый реализм и имморализм, свойственный эллину, был нуждою, а не «природой». Он был лишь следствием, он не существовал вначале. Да и празднествами и искусствами не хотели достичь ничего иного, как чувствовать себя наверху, показываться наверху: это средства прославлять самих себя, порою возбуждать страх перед собой… Судить о греках на немецкий манер по их философам, пользоваться хотя бы простодушием сократических школ для объяснения того, что такое, в сущности, эллинское!.. Ведь философы – décadents эллинства, они олицетворяют собою восстание против старого, аристократического вкуса (против атонального инстинкта, против polis, против ценности расы, против авторитета происхождения). Сократовские добродетели были проповедуемы, потому что они пропали у греков: раздражительные, боязливые, непостоянные, комедианты все до одного, они имели несколько лишних причин позволить проповедовать себе мораль. Не то чтобы это чему-нибудь помогло, – но высокие слова и величественные позы так к лицу décadents…
4
Я был первым, кто, для уразумения более древнего, еще богатого и даже бьющего через край эллинского инстинкта, отнесся серьезно к тому удивительному феномену, который носит имя Диониса: он объясним единственно избытком силы. Кто изучает греков так, как тот глубочайший знаток их культуры из живущих нынче, как Якоб Буркхардт в Базеле, тот поймет тотчас же, что этим кое-что сделано: Буркхардт включил в свою «Культуру греков» специальную главу о названном феномене. Если угодно познакомиться с противоположным отношением к делу, то стоит только посмотреть на почти забавную бедность инстинкта немецких филологов, когда они приближаются к дионисическому. Особенно знаменитый Лобек, который с достопочтенной уверенностью высохшего среди книг червяка заполз в этот мир таинственных состояний и убедил себя в своей научности, заключавшейся в том, что он был до отвращения легкомыслен и ребячлив, – Лобек дал понять со всею ученостью, что, в сущности, все эти курьезы не имеют никакого значения. Жрецы действительно могли сообщать участникам таких оргий кое-что не лишенное ценности, например, что вино возбуждает веселье, что человек порой живет, питаясь плодами, что растения весною распускаются, а осенью увядают. Что касается того удивительного богатства обрядов, символов и мифов оргиастического происхождения, которыми буквально зарос античный мир, то Лобек находит в нем повод повысить свое остроумие еще на один градус. «Греки, – говорит он, Aglaophamus, – если им больше нечего было делать, смеялись, прыгали, бесновались, или, так как у человека порой является охота и к этому, они сидели, плакали и вопили. Другие присоединялись к ним позже и искали хоть какой-нибудь причины изумительного явления; так возникли для объяснения этих обычаев бесчисленные сказания о празднествах и мифы. Другая сторона полагала, что те забавы, которые, раз уж имели место в дни празднеств, являлись необходимой составной частью празднований, и соблюдала их как необходимую часть богослужения». – Это презренная болтовня, к такому Лобеку нельзя ни минуты относиться серьезно. Совершенно иное впечатление получим мы, если исследуем понятие «греческого», которое составили себе Винкельман и Гёте, и найдем его несовместимым с тем элементом, из которого вырастает дионисическое искусство, – с оргиазмом. Я действительно не сомневаюсь в том, что Гёте принципиально исключал нечто подобное из возможностей греческой души. Следовательно, Гёте не понимал греков. Ибо лишь в дионисических Мистериях, в психологии дионисического состояния выражается основной факт эллинского инстинкта – его «воля к жизни». Что гарантировал себе эллин этими Мистериями? Вечную жизнь, вечное возвращение жизни; будущее, обетованное и освященное в прошедшем; торжествующее Да по отношению к жизни наперекор смерти и изменению; истинную жизнь как общее продолжение жизни через соитие, через мистерии половой жизни. Поэтому в половом символе греки видели достойный уважения символ сам по себе, подлинный глубокий смысл всего античного благочестия. Все отдельное в акте соития, беременности, родов возбуждало высшие и полные торжества чувства. В учении Мистерий освящено страдание: «муки роженицы» освящают страдание вообще, – всякое становление и рост, все гарантирующее будущность обусловливает страдание… Чтобы существовала вечная радость созидания, чтобы воля к жизни вечно подтверждала сама себя, для этого должны также существовать «муки роженицы»… Все это означает слово «Дионис»: я не знаю высшей символики, чем эта греческая символика, символика дионисий. В ней придается религиозный смысл глубочайшему инстинкту жизни, инстинкту будущности жизни, вечности жизни, – самый путь к жизни, соитие, понимается как священный путь… Только христианство со своим ressentiment no отношению к жизни, лежащим в его основе, сделало из половой жизни нечто нечистое: оно запачкало грязью начало, предусловие нашей жизни…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу