Летом 69-го мы со Стасом иногда навещали Вахмяниных на даче, где они отдыхали после смерти Валеркиной матери. Добираться до них надо было по Можайскому шоссе, так же, как и до нашей излюбленной Николиной Горы. Ольга сокрушалась, что и жизнь на природе после смерти свекрови омрачалась неприязнью, возникшей между ними и семьёй Валеркиного брата. Дача в Пионерской и квартира на улице Горького рядом с Моссоветом, доставшиеся в наследство обоим братьям, являлись предметом молчаливого, но нагнетающего атмосферу раздора.
Осенью Ольга половину времени проводила в больнице. Она стала раздражительной и отстранённой. Её взгляд обратился внутрь, отмечая все изменения своего организма. Наше общение стало несколько принуждённым: мне было неуютно в больничных коридорах, я испытывала неловкость от своего здоровья, цветущего румянца и насыщенной событиями жизни. Мне было жаль Ольгу, которую я любила как сестру, но показать этого я не имела права. Нельзя было не заметить, как Ольга тает на глазах. Её кожа приобрела какой-то пергаментный оттенок и восковую прозрачность. Но я была ещё так молода, что приближающаяся смерть близкого человека казалась настолько нереальной, что о ней просто не думалось. Тем более, что я уже привыкла к Ольгиной болезни. Онкологический институт на Каширке (ещё его старое здание) был привычен мне ещё с детства - ведь впервые Ольга попала туда в 13 лет. На территории больницы я знала все ходы и выходы, щели в заборе и проходы в подвале, а в тени около морга мы частенько сидели, тайно покуривая.
Этот Новый год Ольга встретила в больнице. Накануне Валерка привез её к себе домой, но о походе в компанию не было и речи. Потом Наташка, Ольгина сестра, рассказывала, что у Ольги отказали ноги и Валерка отнес её обратно в больницу на руках. Но никому ничего не сказал сразу, так как боялся, что его обвинят во всём: домой он забрал Ольгу без разрешения врачей, буквально выкрав её из больницы.
Итак, мы поднялись в квартиру Стаса, осмотрелись, познакомились. Не помню, как уж Стас нас представил своей жене, и что мы наплели своим мужьям - откуда знаем эту семью,… но всё выглядело вполне естественно.
Перед Светкой я не испытывала вины или смущения: в конце концов, она сама виновата, нельзя быть такой курицей. Но ведь ничего, собственно, плохого я ей не делаю. Уводить Стаса не собираюсь, семью не разбиваю. А если не я, то будет кто-то другой, может быть, похуже и поопаснее. Но, видно виновата я была, и наказание не заставило себя ждать.
- Давайте по глоточку… А потом женщины на кухню - готовить, а мужчины - накрывать стол… - распоряжался Стас, открывая бутылку коньяка и разливая всем понемногу.
Эту рюмку я запомнила на всю жизнь - маленькая, плоская, на тонкой изящной ножке, наполненная янтарной жидкостью. Роковой глоток коньяка подействовал через полчаса, когда мы были заняты приготовлением праздничных угощений. Я даже помню в зеркале в коридоре свое осунувшееся лицо с широко распахнутыми глазами - “что со мной?”; чей-то голос рядом: “Господи, ты даже вся позеленела!” Кто-то довёл меня до туалета, а потом, заботливо накрыв, уложил в тишине за закрытой дверью в детской.
Новогоднюю ночь я провела в тёмной комнате, то впадая в забытьё, то выплывая из липкого тумана, чтоб поблевать на снег через открытую фрамугу и с завистью прислушаться к шуму за дверью. И только когда за окном установился ровный серый рассвет, я смогла выползти из своего укрытия. Для меня новый год как бы и не наступил - я не слышала ни боя курантов, ни поздравления Брежнева.
“Как встретишь Новый год, так его и проведешь!” - эта поговорка полностью оправдала себя.
25 января мы уехали в дом отдыха под Москвой: я, Женька, Стас и Витька. Я взяла половину отпуска на Трёхгорке и собиралась неделю провести на природе, а затем сопровождать Стаса в командировку в Грузию. А около 12 ночи нам позвонили и сообщили, что умерла Ольга. Хотя мы знали, что она заболела корью, из-за чего пред отъездом я не могла её навестить, всё равно это было ужасающей неожиданностью. Дальше всё было как в тумане. Мы вернулись в Москву на какой-то попутной машине. Была уже ночь, и мы направились ко мне домой, а наутро пришли к Ольгиным родителям. Жили мы тогда рядом: я на проспекте Вернадского, а они на улице Удальцова. Помню Евгению Григорьевну, сидящую в кресле и кутающуюся в серый пуховой платок, которого раньше никогда у неё не видела. Глаза просто сумасшедшие - рассказывает без всякого выражения в голосе, как Олечка сняла колечки и передала ей: они мешали. Потом ночь накануне похорон: мы с Наташкиным мужем Гоги дежурим около гроба. Родители спят в соседней комнате, а мы то сидим в ногах покойницы, то отправляемся на кухню выпить очередную чашку кофе и выкурить по сигарете. Заплакала я только тогда, когда гроб выносили из квартиры. Помню сугробы вокруг тропинки на Немецком кладбище, между которыми движется цепь провожающих. Я плетусь где-то в конце этой очереди, прижимая к груди горшок с примулами, невесть как оказавшийся в моих руках. Потом кто-то подхватывает меня и выталкивает вперёд к могиле. Какие-то торжественные слова говорит мой отец (наши родители дружили уже тогда). Поминок я не помню совсем. После похорон мы вернулись в дом отдыха. Гуляли по заснеженному лесу, катались на коньках, сидели на концертах. Всё, как обычно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
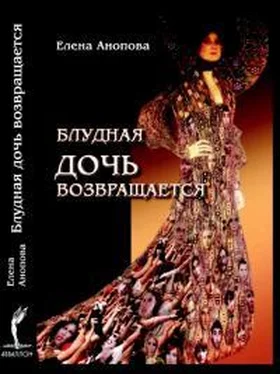


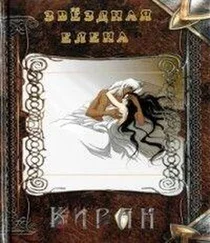





![Елена Звездная - Киран. Дочь воина [СИ]](/books/394166/elena-zvezdnaya-kiran-doch-voina-si-thumb.webp)


