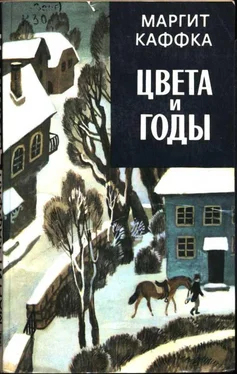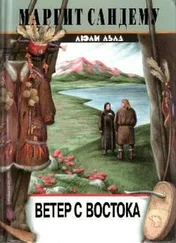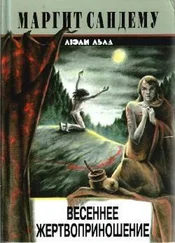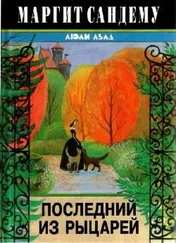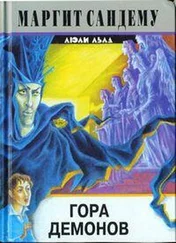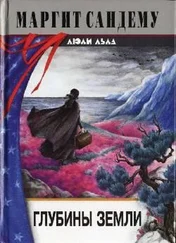P. S. Да, забыла! Те семь тюков бросовых книг, которые оставил мне в наследство покойный Петер, а я к вам на чердак сложила, отдай, так и быть, пиаристам в библиотеку. По два форинта тюк — все-таки деньги! Лавочник, тот пятьдесят крейцеров давал, ему — на упаковку. Обнимаю! Мама».
Вот она была какая. Никогда ни с чем ее не связывали сколько-нибудь прочные и тесные узы, но зато в любом положении она умела быстро найтись и легко приспособиться. Открытый, весело-ироничный нрав, все еще приятная внешность и хорошие манеры доставляли ей общую любовь и расположение. «Ох нет, — думалось мне, — никуда я больше не тронусь. Новую жизнь начинать, привыкать, приноравливаться — это уже не для меня. Я теперь старше собственной матери!.. Да и куда ткнуться, за что приниматься, если прежде уморишься до полусмерти… Ах, грех, большой грех думать так, но ведь все от этого зависит. Еще раз оказаться в чужой власти — или предоставленной себе, обреченной добывать кусок хлеба? Этого я не вынесу». При Денеше, даже несмотря на нищету, я все-таки была сама себе хозяйкой, единственной домоправительницей и распорядительницей. Он, бедняга, ни во что не вмешивался, никогда. А теперь его словно вообще не стало, даже на службу бросил ходить, разве что изредка; сидел понуро в кресле, почти потеряв вкус и к трубке, и к еде, без разбора поглощая дешевую готовую пищу из столовой, лишь бы живот набить. Жили мы на те шестьдесят форинтов, которые после всех удержаний, за долги и на пенсию, оставались из его жалованья.
Но жили мирно, тихо, как не живали никогда. Ни ссор, ни прислуги, ни детишек. Одна я ходила за своим живым мертвецом, готовила, стирала на него, убиралась, но без прежнего свирепого остервенения, а с необычной, монашески самоотверженной кротостью. Моя смятенная, издерганная душа исполнилась новых несбыточных иллюзий: религиозных. Не минула и меня надежда всех усталых и умученных на неземное облегченье, на высший, дарующий покой и отдохновение милосердный промысел. Кризисная женская пора прошла; нервы поуспокоились, и люди окружали уважением, участием, заходя, утешая; все это трогало меня и смягчало. Я немало успела передумать, и взгляд на свою жизнь как бы со стороны многое сгладил, приглушил. Лишь в те поры начало складываться у меня понятие об истинной ценности пережитого. И стало подчас казаться, будто и не я управляла собой, своими поступками, а какая-то внешняя неисповедимая сила, кто-то таинственный, о чьей воле и замыслах дано нам судить лишь задним числом. Назовите это случаем, судьбой, миропорядком… да хоть богом, безразлично, — тоже всего лишь слово. Важно хоть в чем-то почерпнуть капельку утешительной веры, если прочие грезы, фантазии, страсти, казавшиеся важными вещи ее не дают. Веры, что смерть — только переход куда-то; что жизнь большой цены не имеет…
И вместе с верой, что сущее — позади, отверзнется пред нами грядущее. Неведомое, неопределенное, но сказочно прекрасное и возвышенное, вечное: райское. Опять стать юными телом и невинными очистившейся, преображенной страданием душой; вновь узреть любимых и обиженных, непонятых нами или мучивших нас, — но встретиться в блаженном умягчении и взаимном согласии, с грустно снисходящей улыбкой взирая оттуда, свыше, на прошлое существование, на эту земную юдоль. Воспоминания благими слезами осветляют зрение принимаемых в лоно пресвятой Церкви…
Вот как вещал гипнотически проникновенным полушепотом патер Розверич, знаменитый молодой капеллан пиаристов, беседуя со мной мирными, тихими вечерами. Благодаря этому священнику вся светская городская публика вдруг сделалась верующей. Дамы жадно внимали его велеречивым проповедям на благовонных мессах, а так как он был еще духовником покровительствовавшей ордену графской семьи, сделалось особым шиком принимать его и везде показываться в его обществе. Розверич учредил совет церковных попечительниц, патронируемый престарелой графиней, моей благодетельницей, и под его эгидой женщины, девушки католического исповедания собирались и вышивали подушечки на алтарные ступени, кафедральные покрывала. А Розверич читал им или повествовал о Франциске Ассизском, о святой Екатерине и Марии Египетской, которая семи перевозчикам отдала свое юное девственное тело на поругание, дабы переправиться на берег, где проповедовал Иисус Христос. И о нем говорил, об Иисусе, кто в лилейных лугах пасет стада свои и чье имя подобно аромату мирры и ладана, сам же он — утренней заре; чья слава взошла, как солнце, чья красота сияет, как месяц, а гнев — грознее подъявших хоругви войск… Настоящая эпидемия благочестия распространилась, помнится, в городе, который все еще представлял благодарную, быстро воспламеняющуюся почву для всякой пылкой нервической романтики. Даже приезжие поддавались общему настроению. Быть католиком означало ведь нечто изысканное, позволяло вращаться, участвовать, играть роль; стало модой. Оттесненным от всего этого протестанткам оставалось только кипятиться втихомолку, негодовать промеж себя.
Читать дальше