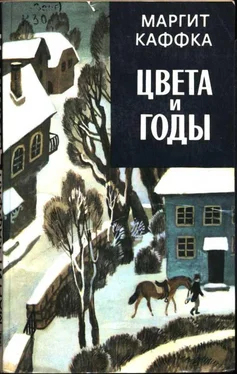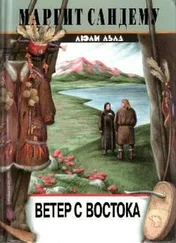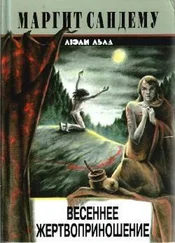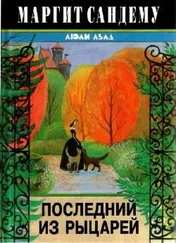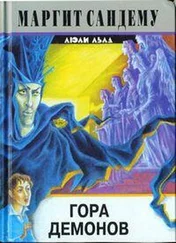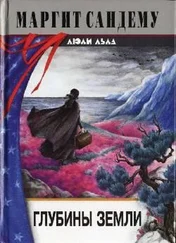А теперь — скоро годовщина — все идет иначе и почти одинаково каждый божий день. Встаю я рано и до завтрака уже сломя голову ношусь по нашей трехкомнатной квартирке с кухней; перетираю на полочках в гостиной множество фарфоровых безделушек, посуду на буфете, убираю лампу, мелом чищу серебро, смахиваю пыль, подметаю, отдаю распоряжения и опять, опять до самого обеда: ковры выбивать, ручки дверные оттирать, овощи чистить, проверять, подгонять, бранить, наставлять свою стряпуху, прачку и уборщицу в одном лице — свою единственную прислугу за всё. И так, значит, без остановки, до конца. До какого конца?.. Да на всю жизнь.
Ене допил свой кофе, пробежал глазами газету, надел пиджак, зажег сигару и подошел меня поцеловать. Но я отвернулась, расстроенная.
— Что с тобой?
— Так, ничего! — ответила я, и губы у меня дрогнули.
Он всмотрелся в мое лицо, обнял внезапно и, запрокинув мне голову, шутливо-насильственно стал искать мой упрямо ускользающий рот. Я не комедиантка и расхохоталась в конце концов. Он потрепал меня за вихор, который проказливо вытянул из-под моей красной косынки, шлепнул меня по бедру, и, будто вспомнив что-то неотложное, отпустил.
— Смотри, дикарочка, отшлепаю в другой раз, если упустишь молоко.
Вот и парадная дверь захлопнулась. Я отстранилась от окна, чтобы не увидел меня, и некоторое время смотрела на снежные крыши, на Хайдуварошскую улицу, стывшую в утренней тишине, на скрипучий, подмерзший колодезный журавль напротив у швабов во дворе. Как однообразно, монотонно все. Одно и то же вчера, сегодня, изо дня в день! Квартиру сняли мы дешевую, на окраинной улице, отдельно от конторы Ене: надо было экономить. За мной получил он немного, — после покупки приданого, мебели, красивого столового серебра почти ничего не осталось. Так и потекла наша жизнь: тихо, почти уютно, но страшно однообразно. Что-то уже есть, получено, но ждать больше нечего, некуда стремиться. «Вот он ушел, — вертелось в голове, — и до обеда будет на людях. Все-таки разговоры, новости; в конторе подиктует, к инспектору пойдет, в финансовое управление заглянет, потом на судебное разбирательство. Ближе к полудню выпьет пива в «Сарваше», по улице Меде пройдется, перед домом гроси, под моим бывшим окошком с цветами. А в полдень — домой: пообедать сытно, соснуть сладко в чистой, уютненькой комнате, с женой обняться невозбранно, безбоязненно и даже в мыслях не иметь, как я верчусь тут да подгоняю, надрываюсь, чтобы все это было у него. Ох, эта незаметная, ежедневная кропотливая барщина, беличье колесо домоводства. И все ради него, ради мужчины!..»
Дома, в девической жизни, не изведала я требовательной, суровой отцовской власти, беспрекословного подчинения главе семьи, и все теперь во мне восставало, — особенно после медового месяца с его ласково привадливыми попущениями. «У девушек, которых вывозят, сейчас как раз масленица, пора танцев, новых платьев, волнующих замыслов и секретов, а мне она — прости прощай! — только улыбнулась. Бросили, оставили на мужнин произвол. Мама — госпожа Телекди — в деревне живет с супругом, братья учатся за границей, гроси занята одним Иштваном, Агнешев ребеночек ей всех внуков милей. Как же так они отдали меня вдруг этому человеку? Жизнь моя теперь кончена. Скоро… а что, нет разве?.. расплывусь, раздамся, стану безобразная, и там уже, как все жены, только дома сиди! Но не дурно ли это, так вот роптать? Уж, конечно, Агнеш Каллош такое и в голову не придет!»
Я вдруг вскочила и с яростным рвением схватилась за работу. Труд по дому казался мне каторгой, но что-то меня всегда подстегивало, заставляя вносить в него пыл, страсть, преувеличенную торопливость, — гонку устраивать, и это мое тогдашнее душевное состояние стало словно жребием моим, наложив клеймо на всю последующую жизнь. В моем маленьком хозяйстве все блестело, сияло; не было ни одной не вымытой, не вытертой, не отскобленной, не отчищенной вещи. Даже шляпки медных гвоздиков, которыми были прибиты к полу ковры, я оттирала пастой; даже черенок лопаты для угля мыла горячим щелоком и за шкафы, в не видные никому закоулки, ежедневно залезала тонким веничком. Вот какой я стала, вынуждена была стать. «Не лучше ль было на что-нибудь поважнее обратить эту бешеную жажду деятельности, неуемную волю, которую я вложила в выколачивание пыли?» — думается мне теперь, из моего далека. Было, однако, желание превзойти, прогреметь, отличиться; а как иначе я могла его удовлетворить? И потом преувеличенное это тщание, безукоризненная чистота сообщали отпечаток особой изысканности, хорошего тона нашей жизни, моей квартире, где все оставалось свежим, нетронутым, — тем паче, что обставить и принарядить ее как-то по-новому мне, пожалуй, не хватило бы вкуса, природного дарования. Вот и вкус: может, в других условиях удалось бы развить его получше? Кто знает! Это дочери мне твердят. Им того, старого уклада, нашего мира с его порядками, моей жизни уже не понять. Они уже другие.
Читать дальше