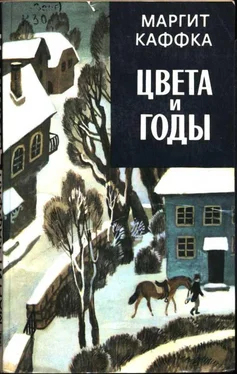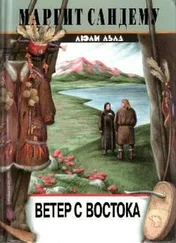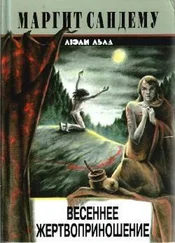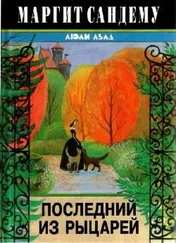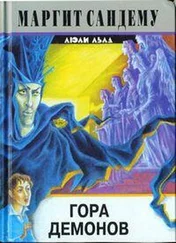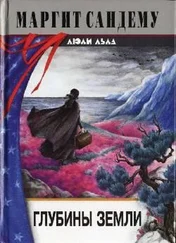Оба мы, помнится, были в тот вечер необычно молчаливы. Впервые в жизни ощутила я в себе странную серьезность, но сама толком не понимала, что со мной. Сладкая истома, безотчетное желание плакать и трепетное любопытство охватили меня: «Что это такое? И что будет дальше?»
Наутро все прошло. Общество собралось на веранде уже поздно, ждали новых гостей, соседей. Днем Эндре велел запрягать и вместе с младшим братом стал собираться. На прощанье он чуть значительней пожал мне руку и попытался заглянуть в глаза. Но я восприняла это теперь почти как оскорбление, ведь вчера еще все решилось, и не ответила ни на то, ни на другое.
На той же неделе навестил меня Ене Водичка. Привез его исправник в своей коляске и, представив хозяевам, сказал, что они едут по делам, на межеванье, а завернули передать привет от моих, — от бабушки. Тетя приняла их приветливо; я знала, что из писем все про меня известно. Однако же дядя был все-таки сдержан с Водичкой, хотя и вежлив, величая его «своим юным другом» или «уважаемым другом», но не «братцем» и не на «ты», как всех прочих. В задумчивом удивлении посматривала я за обедом на его аккуратно вычищенный костюм, красивую булавку в галстуке, на белые пальцы с тщательно подпиленными ногтями и круглую подстриженную бородку. «Значит, он? — вертелось в голове. — Но я же никогда не сумею его полюбить. Вот не могу, и все!»
— Обрадовались вы мне хоть немножко, Магдушка? — спросил он, когда нас после обеда оставили одних и мы гуляли по саду среди крыжовника.
— Да, конечно!
— Но не больше, чем кому-нибудь другому?
— Не знаю.
— Не знаете? Как же так?
Я пожала плечами с нелепым чувством, что оба мы друг перед другом выглядим круглыми дураками, хотя это и не так. Но не придумала, что ему ответить. Да и что было отвечать?
Потом, в беседке, он прочел мне стихотворение, начинавшееся: «Куда, куда влекут тебя мечтанья» [20] Стихотворение «Мечтательнице» венгерского поэта-романтика Михан Вёрёшмарти (1800–1855). Пер. Н. Чуковского.
. Прочел наизусть и растолковал, почему оно красиво, какой в нем смысл. Стихотворение это я услышала тогда впервые, оно и нравилось мне, и вызывало некоторую неловкость своей выспренностью. Водичка попросил позволения переписать его и прислать мне. Нельзя сказать, чтобы мне было с ним плохо или неспокойно, стесняла только некоторая холодность хозяев дома и остальных; казалось, они его немного презирают, а с ним и меня.
Зато дома, куда я вернулась осенью, пожаловаться было не на что. И мама, и гроси сделались с ним преувеличенно сердечны, почти фамильярны.
…В канун рождества умер наконец известный по всему комитату чванством и расточительством старик Телекди. Старым злыднем честили его даже на похоронах. Грубостью, самоуправством и распутством прославился он еще при жизни своей бедной, рано скончавшейся жены. На селе от него прятали, укрывали всех молодых девушек; иначе, попадись ему какая на глаза, прикажет записать к себе в дворню, и горе той, которая воспротивится. В дневнике его юной чахоточной жены, который родня нашла после ее смерти, повторялся только один вопрос: «Боже, что станется с моим единственным сыном, когда меня не будет?» К тому времени мальчик уже подрос, своими глазами мог наблюдать отцовские куражества, — тот и отослал его подальше, в Пешт, в Коложвар изучать немецкий и право, снабжая деньгами и ничего ни про какие экзамены не спрашивая. Потом даже за границу отправил с сыном пастора, лишь бы дома не держать. «Сгубил несчастного!» — твердили все в один голос, хотя я никак не могла уразуметь почему. Родовую же усадьбу старик превратил тем часом в притон для картежной игры и диких оргий, на которых прислуживали молоденькие батрачки. При мне только опасливым шепотом и с праведным ужасом поминалось про это. За несколько лет до кончины его хватил удар; убогого, совершенно парализованного возили его в кресле на колесах. Но красиво посаженная голова, злой старческий ум были все те же, ясный, сверкающий взгляд, острый язык разили по-прежнему беспощадно, запрещая, кляня, проклятьем грозя родному взрослому сыну, о котором (как нам передавали) дошло до него, будто за беспоместной вдовой с тремя детьми на шее ухаживать пустился — моей матерью.
Но вот он умер и похоронен с превеликой помпой. Конец, значит, всяким запретам!
Конец, когда же этому конец: вот что читалось в отчужденном, почти враждебном молчании бабушки, вот о чем, торопя и вопрошая, говорило все ее поведение с тех пор. Беспокойная, напряженная, нервно-нетерпеливая атмосфера воцарилась в семье. Мы жили будто в ожидании взрыва, только что не врагами ощущая друг друга. Гроси, безмолвствуя, поджимала губы, мама капризничала, раздражалась, то и дело с гневной горечью порицая мое обхождение с мужчинами. «Что за безвкусица, эти твои замашки, — повторяла она, — вечно одно и то же, надоело уже всем; Водичку, и того не умеешь удержать, привязать к себе». Как часто мелькали два эти слова в женском словаре! Даже мысли не допускалось, что и женщине можно наскучить, надоесть, что и она вправе отвергнуть мужчину. Но меня-то отчего возмущало, оскорбляло это обвинение? Я ведь знала, что оно несправедливо.
Читать дальше