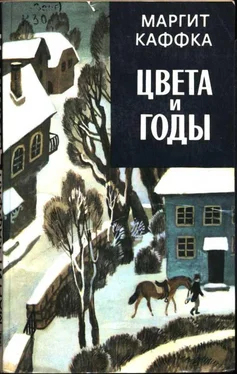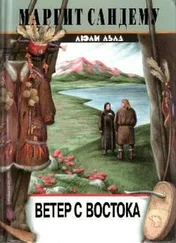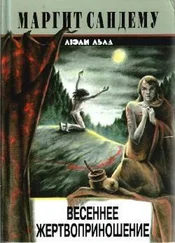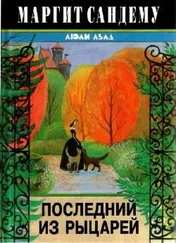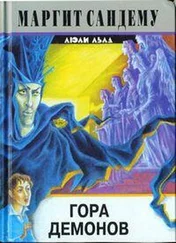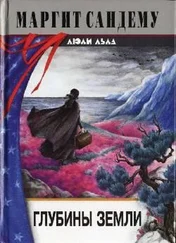Портельки всегда были реформатами, оба мальчика должны были по всем правилам сохранить то же вероисповедание. Но Зиманы — бабушка, мама, хотя без особого благочестия или набожности, — глубоко чтили свою, католическую, веру, ощущая нечто торжественное и могущественное в этом культе, видя в нем много красивого, а потому потребного в жизни.
— Уж дай бабе власть, она такого наворотит, что чудо! — продолжал упорствовать расходившийся Абриш, щипля седую бороду. — Слышал, слышал, что вы замышляете, за кого девчурку прочите. Кичка… Водичка какой-то… так, что ли?
— Замуж выдам — на свадьбу приглашу, деверек дорогой, а там уж ваше дело, можете и не приходить! — возразила мать почти запальчиво. — Покамест ни о каком зяте речи нет.
— Ну конечно, конечно, — посмеивался дядя Абриш не без ехидства, поглядывая зорко на меня. — Я-то прекрасно помню, деточка, мы тогда сами ребятишками были, в сельской школе учились. Выходим, значит, из ворот, где будка сторожа, а сверстники мои: «Бежимте на базар, старика Водичку порют!» И знаешь, голубка, кого пороли-то? А деда родного теперешнего нашего седого разбойника, гораздого землю делить! Крепостного грязного, которого объездчик за кражей голубиных яиц в Вадашской пуще заставал. Там, на базарной площади, и стояла кобыла деревянная!..
Тут подняла голову бабушка и твердо, гневно-вызывающе посмотрела гостю прямо в глаза. Вечная зимановская оппозиционность — воинственная настороженность более слабой дворянской семьи по отношению к зятевой, более сплоченной, задиристой и многочисленной, — блеснула в ее взгляде.
— Довольно этих неуместных речей! Тот молодой человек был гостем моим, его честь — это моя честь. И за кого моя внучка пойдет — забота не ваша. Есть из кого выбирать. Уж такого, конечно, присмотрим, кто, кровь из носу, а сумеет жену обеспечить до скончания дней, даже в нынешние трудные времена! После отца-то не густо у них осталось, можете быть покойны. В молоке они не купались.
Молча, строптиво насупясь, слушала я эту желчную, полную накипевшего ожесточения перепалку. И тайная ее подоплека была мне известна, о которой ни одна сторона не поминала. Лет десять назад, едва мама овдовела, дядя Абриш попросил руки своей красивой молодой золовки. Сам он тоже остался вдовцом с дочуркой на руках. И после неожиданного отказа ни на миг не утихала его озлобленная, придирчивая ревность. Позже, правда, стал он делать вид, будто посватался к матери единственно ради братниных детей, для семейного блага. А тут еще этот Водичка! Дело в том, что приглашенный экспертом графский инженер-землеустроитель только что расстроил какую-то небольшую, но сомнительную комбинацию дяди Абриша по округлению своего поместья. Знала я очень хорошо, почему и гроси кинулась на защиту Водички-сына с такой горячностью. Знала, что на исходе зимы она уже предприняла попытку просватать меня за Элемера Кенди, хромца, но будущего обладателя восьмиста хольдов [18] Хольд — венгерская мера земельной площади, чуть больше половины гектара.
. Попытка не удалась: тем показалось недостаточным мое приданое.
Первый раз меня с такой силой охватило горькое чувство девичьей беспомощности, полной подвластности чужой воле. Но исхода это чувство не нашло, — быстро задохнулось, подавленное семейной дисциплиной и привычно успокоительным, потому что безраздумно и безапелляционно непререкаемым авторитетом старших. «Гроси лучше знать!» — облегченно подумалось в конце концов.
Шла лишь вторая моя масленица; мне минуло восемнадцать. И оскомина только начинала накапливаться, еще легкая, слабая, лишь изредка ощущаемая, как после сна — дурной привкус во рту.
Молодые люди и в этот сезон были приблизительно те же, хотя кое-кто в начале зимы ходил уже в женихах. Мелкие чиновники исподволь обручались с девушками неприметными, непритязательными. Один родич наш взял жену из другого комитата; ради старшей Ревицкой вышел в отставку статный, белокурый, нездешний по выговору обер-лейтенант.
Были представлены обществу несколько новых девушек, и я наблюдала встревоженно: не красивей ли, не бойчее меня? Круг моих поклонников, однако, не распался. Только другой какой-то оттенок приобрело все с прошлого года: словно бесцветней стало, заурядней и бледнее. Владычество мое еще длилось, но утратило могущество новизны, да и для меня самой было уже не ново. Закружиться в вихре танца еще доставляло наслаждение, но после нет-нет, да и вспомнится Телекди, его кислое резонерство: «Что за прыганье дурацкое, каторжная тряска всю ночь напролет? К чему это? Для чего?»
Читать дальше