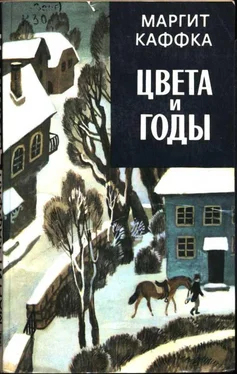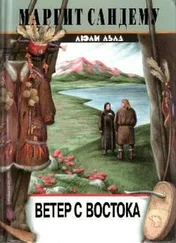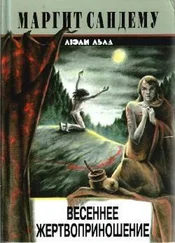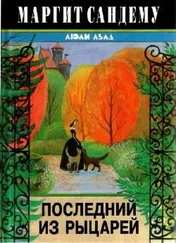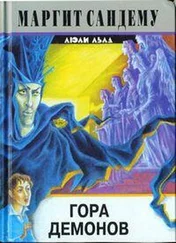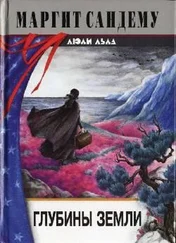Первый раз предстояло мне выехать на комитатский бал — в туберозово-белом шелковом платье со шлейфом.
Пока Ханика меня причесывала, укладывая и зашпиливая завитые локоны, а мама тонкой рисовой пудрой легонько припудривала мне плечи и я, стройная, величавая, встала наконец перед зеркалом во всей своей гордой юной красе, моя надежда быть королевой бала перешла в твердую уверенность. Наверно, было отчего усомниться, устрашиться, сообразив: немало ведь будет и других, точно так же разодетых, красивых девушек, которые могут меня затмить. Но в зал, под заливавший его свет множества ламп вступила я с глазами, блиставшими этой окрыляющей и ликующей уверенностью. Она придавала точность и гармоничность всем моим движениям, благодаря ей я смело, непринужденно встретила перекрестный огонь взглядов, шутливых вопросов — и сама повела вызывающую встречную игру, находя мгновенные, единственно верные, необычные и неожиданные выпады, остроумные, проворные ответные удары, которые тут же передавались из уст в уста. Ни минуты не закрадывалась мне в душу озабоченная или ревнивая зависть к остальным девушкам; мной владело одно чувство: здесь я и только я, и все — ради меня! Не очень-то хорошо, пожалуй, и уж никак не справедливо; но помогало.
О этот дивный, кружащий голову пестрый масленичный кавардак, этот праздничный блеск и беспечность, за балом бал!.. Смутно, бездумно роящиеся воспоминания о них бросают на всю жизнь свой скрашивающе розовый отсвет, умиротворяя и теша наше женское самолюбие: вот какой я была когда-то!
Счастливая, отрадная быстролетная пора; свежие, ясные цвета, легковейные годы. Тихоструйным вальсом проплыли они, увлекая меня за собой, погружая в сладостное забвение. Порой и сейчас, мягко зыблясь, кружась, плыву я во сне, — мелодии старинных, когда-то модных вальсов возвращаются из небытия, и я просыпаюсь радостная, безмятежная.
А между тем куда больше по мне были долгие, стремительные чардаши за каким-нибудь поздним ужином, — зажигательный их задор! Разойтись, расплясаться вовсю с кем-нибудь под стать себе возле цыгана-скрипача — до умопомрачения, до упаду, словно в горячем, искристом тумане, замечая лишь, как устают и отстают все вокруг в зале, что танцующих едва несколько пар, да и те прекращают, окружают нас: смотрят на нас двоих, на меня; всем своим существом, бешено частящим пульсом, каждым помыслом и движением сливаясь с музыкой, с шальной, завораживающей стихией танца…
Нет и не может быть наслаждения более пьянящего. Пусть любовь одаряет всем, — такого самозабвенного соития сердец, движений, взоров и она дать не может.
— Кокетлива, куда там! Игрунья! Хоть кого растормошит! — отзывались женщины, у кого глаз понаметанней, хотя больше так, — только чтоб сказать, рассудить.
Ибо на подковырки, нарекания отважиться — такое было исключено. За нами на страже стояла готовая к отпору, к дуэли мужская родня: деверь-исправник, кум-вице-губернатор, племянник-нотариус; стояли гросины клиенты, все мамины поклонники и, наконец, худо-бедно, но в беде державшаяся заодно деревенская сватия-братия. «Материна дочка! — примирительно прижмурясь, говаривала тетка, Илка Зиман. — Ей все к лицу! Хоть стул заместо шляпы надень, хоть колесом ходи! Красотка, ей все позволено!»
Кадриль я танцевала с матерью, — она всегда оказывалась моей визави. Таково было мое желание: я чувствовала, что это зрелище необычное, привлекательное, и все справлялась озабоченно у своих поклонников: «Что, нет еще у мутти [17] Мутти — мамочка, маменька (нем.) .
кавалера?»
К концу масленой мы уже привыкли, что Ене Водичка — наша неотступная тень. Ему вверяли мы свои веера, пелерины, которые он принимал с кроткой бережностью, и за танцами я не раз примечала, с каким теплым, восхищенным вниманием следит он за мной, прислонясь к притолоке или колонне. Но одновременно он беседовал и с другими, — степенно, обходительно, так что ничего в его поведении не бросалось в глаза. И вся его изысканная, даже лощеная внешность, приятное, начавшее округляться лицо вполне вписывались в общий антураж.
За ужином он сидел за нашим столом, но обыкновенно не со мною рядом. «Чего ему надо, Магдуци? Ходит за тобой, как гувернер», — ревнивым шепотом поддразнивали меня троюродные братья Кехидаи. С кокетливым смехом пожимала я плечами. Тогда они принимались рассказывать про него разные коварно-насмешливые истории: как однажды, расхрабрясь, решил он было кутнуть, но живот заболел и стошнило после первого же стакана. И что танцевать ему разве дома пристало, с комодом колченогим.
Читать дальше