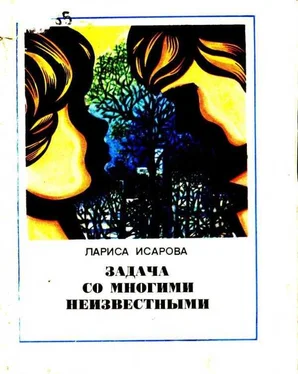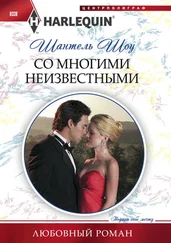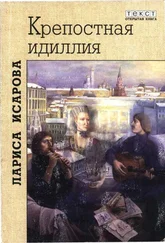На выпускном вечере ко мне подошла немолодая расплывшаяся женщина, в старомодном платье с оборками, и стала благодарить, что я «приохотила ее поскребыша к чтению».
Увидев мое недоумение, она пояснила, что Маруся Комова — ее дочь.
— А почему поскребыш?
— Так ведь она у меня одиннадцатая, самая маленькая.
И тут я разглядела на ее груди, среди оборок — орден.
— Всех подняла, всех в люди вывела, теперь и помирать не страшно, — сказала Комова, — мои ребятки, как грибы-опятки, друг за дружку всегда, а уж Машенька у нас самая дорогая. До нее одни парни шли, хоть плачь. Я уж прямо терпение теряла, да муж все дочку добивался, и вот только последняя вылупилась, как надо…
Она гордо смотрела на своего «поскребыша», самую нарядную на вечере. Ни у кого не было такого дорогого парчового белого платья, почти как у невесты, таких модных туфель с высоченной платформой, таких старинных голубых бус. Маруся все время улыбалась, чуть смущенно, робко, и казалась почти хорошенькой. Только глаза ее беспокойно всматривались в выпускников, она оглядывалась, точно заблудилась в лесу.
Заметив меня и мать, она подбежала, подпрыгивая, и спросила:
— Соколова не видели? Он обещал со мной танцевать…
Потом ей показалось, что вдали мелькнули его белые волосы, и она бросилась в ту сторону, а мать добродушно улыбнулась:
— Пусть веселится, пока молода! Так она сегодня наглаживалась, так старалась, я уж и сама хочу на этого королевича поглядеть…
Но Соколов с Марусей не танцевал. Он пришел в модном костюме, от него пахло одеколоном, белые волосы были так гладко зачесаны, что казались париком. И с ним была накрашенная девица не из нашей школы. Он от нее не отходил, пренебрегая одноклассницами, не заговаривал он и с учителями, явно подчеркивая, что уже «отрезанный ломоть».
Но Комова не очень грустила, а может быть, не подавала вида?! Она даже с вызовом сказала мне:
— Ну и пусть, если ему с ней хорошо! Пусть танцует…
И все же вздохнула, расставаясь с надеждой.
— А мне лучше. Он ее ни капельки не любит, он даже не знает, что такое — любить. А я знаю, ведь я счастливее, правда?!
Я кивнула, наш Лягушонок действительно была счастливым человеком. Она не умела ненавидеть весь мир из-за собственной боли.
Вскоре я незаметно ушла из зала, спустилась в нашу учительскую раздевалку и стала собираться, чтобы исчезнуть незаметно, никого не отрывая от веселья.
И вдруг услышала приглушенный разговор за стеной.
— А ведь я пропаду без тебя…
— Ну и пропадай!
Я узнала голоса Соколова и Мещерской.
— Брезгуешь, все брезгуешь! Но ведь если бы ты вела себя иначе, я, может быть, и без твоих скандалов в рот не взял эту гадость.
— Может быть, надо было с тобой пить?
— Эх ты, так ничего и не поняла. Ведь я год держался, весь десятый класс, неужели и теперь не веришь?!
Они помолчали, потом Мещерская вскрикнула:
— Перестань так на меня смотреть, все, ничего уже не изменить, я тебе цену знаю! — голос ее упал. — Я не могу забыть, каким ты был тогда в метро…
— Чудно, — засмеялся Соколов, — как я старался до тебя дотянуться! Читал книжки, слушал твою музыку — скучно, не по мне, слушал тебя и не слышал, только смотрел… вроде мы на разных языках говорили… А я так хотел стать тебе нужным, хоть кому-то нужным…
Они снова помолчали, но, видимо, Мещерская собралась уходить.
— Подожди. Сколько я давал себе слово плюнуть, забыть тебя, а как встречаю — точно ожог, все сначала. Хочешь — в ноги повалюсь?!
— Не юродствуй!
Мне почудилась даже ненависть в тоне девочки.
— Ты тряпка, просто тряпка, а такого я не могу жалеть, не обязана. И не хихикай, хоть раз в жизни будь серьезным. Вот если бы тебя паралич разбил, если бы ты под машину попал — я бы тебя не бросила, но пьяницу…
— А откуда ты знаешь, отчего я пью? — спросил он с вызовом. — Ты чистенькая, а вот у меня дома…
— Не у тебя одного родители не ладят… Не придумывай оправданий, ты просто безвольный…
— Если бы ты со мной говорила иначе, по-человечески, если бы ты не пилила меня, как тупая пила, если бы понимала, какие я делал усилия, чтобы выкарабкаться…
— А, болтовня! Пропусти, надоело!
Видимо, он загородил ей дорогу.
— Пусти! Нет, и не подумаю! Тогда не поцеловала и сейчас не заставишь! Ведь насильно не посмеешь, правда, когда я на тебя смотрю?!
Я сделала шаг к двери и увидела эту пару.
Мещерская стояла, выпрямившись, откинув голову с тяжелым узлом волос, заложенных низко на затылке, а Соколов смотрел на нее так обнаженно, что даже у меня защипало в горле. Он точно прощался в эту минуту с юностью, с мечтами, с попытками начать другую жизнь. Так смотрят люди с корабля на тех, кто остается на берегу, когда полоса воды между ними начинает шириться, когда звучит последний звонок.
Читать дальше