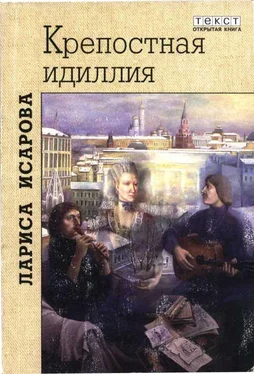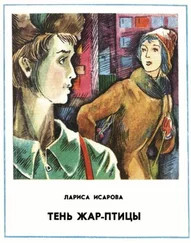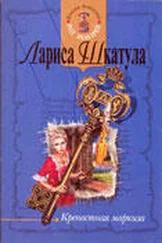Она просила не наказывать провинившихся, умоляла отпустить на волю Дегтярева, она уже и не помнила его мелких уколов, когда они были соперниками по успеху на сцене. Она понимала, что он задыхается в тоске беспросветной, знала, что пьет — вызывающе и открыто, но ее вмешательство не помогло.
Лицо графа каменело, холодело, когда она заговаривала о Дегтяреве. И он цедил сквозь зубы, упрямо и категорично:
— Неблагодарный!
А потом Параша случайно прочла брошенную на столе в библиотеке переписку графа с Воронцовым. Он никогда не прятал своих записок и посланий. Аккуратные строки были посвящены актерам, а все, что касалось театра, было ей особенно дорого и важно. Она не сразу разобралась в сути их взаимного с Воронцовым неудовольствия, но, поняв, ощутила могильный холод. Точно вновь погрузилась в снежный сугроб. Даже зубы стиснула, чтобы унять дрожь.
Назначенный главным над театральными зрелищами граф Шереметев был озабочен настроениями монарха. Желая его повеселить, он попросил посла в Англии графа Воронцова нанять для России разных актеров, «если судя по их нравам вы сочтете их достойными этой милости»; в частности, речь шла о Дидло.
Ответ Воронцова был изысканно-высокомерен: «Ваши предшественники, директора театров, навязывали мне подобные поручения, и я от них отказывался… Я люблю музыку и не люблю балета, ни капли в нем не смыслю… Я никогда не возьму на себя такой ответственности, никогда не буду порукой нравам и правилам театра, особенно если они французские… От времени до времени я призываю к себе певиц и певцов для концертов, за которые плачу, но, ненавидя общество людей театра, я не имею никакой связи с ними. Переговоры, наем — дело банкиров, купцов. Чтобы выполнить ваше поручение, в частности проверить политическое лицо артистов, пришлось бы с ними жить, проводить мою жизнь в кабаках и кофейнях, которые посещают эти люди. Лета, рождение, звание, положение и личное свойство не позволяют мне вести подобный образ жизни. До августа вы еще отлично успеете обратиться к какому-нибудь банкиру, негоцианту или кому-нибудь, кто усердно посещает театры. Кто бы он ни был, он в миллион раз больше будет в состоянии вас удовлетворить, чем имеющий честь быть, граф, вашего сиятельства смиреннейший и покорнейший слуга граф Воронцов».
У нее кружилась голова, она напрягала глаза, читая черновик ответа Николая Петровича.
«Я хотел дать случай удовлетворить нашего августейшего повелителя, который, думаю, вполне заслуживает, чтобы на минуту позаботились о его отдохновении, так как сам он столь серьезно занят нашим счастьем и счастьем всей Европы, что о себе времени думать у него нет… Я совершенно с вами согласен, что вы пишете об актерах. Мы признаем в этих людях только способности, проявляемые ими на театре, и свойства, которые они высказывают в наших передних, не имея других с нами сношений, могущих быть, как вы это очень удачно замечаете, предосудительными для наших лет, рождения, чина и должности… Но я принужден по должности ныне иметь с этого рода людьми дело, хотя они и презираемы за свое ремесло…»
Параша держалась за стены, когда уходила от этого стола, от этих бумаг, исписанных изящными тонкими буквами. Она никогда не думала, что ее ремесло певицы, актрисы — презираемо, позорно, что, даже свободная, она для этих аристократов человек второго, третьего сорта.
Но ведь граф замирал, слыша ее голос, его друзья и родственники безумствовали, когда она играла или пела, многие плакали и после всего ее же презирают…
Она вспомнила, как читала в одной французской книге, что в России все люди высшего света отличаются изысканными манерами, но недостаточно образованны. Среди людей, близких ко двору, нет взаимного доверия, они не понимают прелести умственного общения, не привыкли говорить, что думают, искренне и задушевно…
Может быть, и Николай Петрович писал, подлаживаясь, стесняясь своего отношения к ней, дважды презираемой?
Впервые она задумалась над его положением и с обжигающей ясностью поняла, что счастье ее — мираж. Граф никогда не пойдет против воли императора, против воли света, против мнений своего сословия. Он больше раб, чем она крепостная. Она заставляла себя изгнать из памяти строчки его письма, вспоминала о доброте барина и учителя, но этот листок точно отпечатался в сердце. Он жег душу, и впервые ее посетила страшная мысль, что болезнь — благо, что лучше умереть.
Вечером у нее снова поднялась температура, пошла кровь горлом, и граф не поехал во дворец, хотя дела требовали его присутствия. Император мог в любую секунду отвернуться от него. Царская опала обрушивалась на старых и верных друзей по пустякам, по наветам. Павел Петрович оскорблял свою жену, детей, прогнал Ростопчина, и только род Гагариных, жадных родственников Лопухиной, женщины вздорной, глупой и невоспитанной, обступал трон все теснее.
Читать дальше