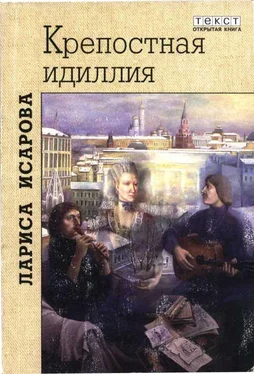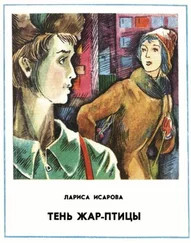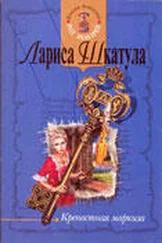Граф купил Параше двух попугайчиков-неразлучников и двух обезьянок, чтобы они веселили, дивили ее в его отсутствие, когда придворные дела заставляли его уезжать из дома. Она играла с ними, как ребенок. Ей казалось, что раньше на нее давила надгробная плита, и теперь она по-иному, светло и радостно воспринимала и солнце, и падающий снег за окном, и потрескивание смолистых дров. Птички и обезьянки к ней быстро привыкли, не дичась, брали у нее из рук угощение, старательно расплачиваясь песенками и гримасами. Попугайчики передразнивали всех, даже звук гитары, на которой она наигрывала. И Таня Шлыкова, оставшаяся все такой же жизнерадостной, хотя выступать на сцене ей больше не приходилось, уверяла, что попугайчики передразнивают даже ее танцы.
Когда же Параше принесли двух соловьев и двух чижиков, она сразу решила их отпустить: певчих птиц нельзя держать в клетке…
Смех звенел, не умолкая, в опочивальне Параши, и граф Николай Петрович начал успокаиваться, похохатывать, когда, подойдя к кровати Параши, вдруг замечал справа и слева возле ее плеч темные мохнатые обезьяньи мордочки, важные и серьезные. Мартышки залезали к ней под одеяло и устраивали прятки, иногда доводя ее до смеха и долгого, неостанавливающегося кашля.
Через месяц осмотреть Парашу был приглашен старый придворный лейб-медик Роджерсон, лечивший еще императрицу, любитель левреток и тончайшего табака. Стараясь миновать взглядом глаза Николая Петровича и смотря куда-то в окно, Роджерсон сказал, что петь Параше нельзя.
— Долго будет нельзя? — спросил граф; на его лице резко прорезались морщины, и обозначились отеки под глазами.
— Никогда. Совсем.
Граф попытался улыбнуться.
— Может быть, это излишние опасения?
— Один час пения — один год жизни… — поднял палец Роджерсон, чтобы привлечь внимание к своим словам, и его выпуклые водянистые глаза омрачились печалью. Он сам восхищался голосом Жемчуговой, всегда посещал ее концерты в доме Шереметева. — Давно мне не нравился яркий румянец на ее щеках и слишком блестящие глаза…
— Я вызову профессора из Германии… — сказал граф.
— Здоровые легкие ей никто не поставит… — Рожерсон снял свое пожалованное императрицей Екатериной кольцо, старательно установил на камине, на самом его краю, чутко найдя равновесие, потом дунул, и кольцо упало, он его подхватил и сказал: — Вот…
Николай Петрович не понял, куда клонит старый лейб-медик. Тогда Роджерсон пояснил, что у Прасковьи Ивановны всегда была слабая грудь, и мать ее умерла от чахотки, и себя она не щадила, слишком много пела, и только одного толчка не хватает, чтобы болезнь вспыхнула факелом.
Едва Роджерсон уехал, граф вызвал Лахмана. Николай Петрович мечтал, чтобы приговор Рожерсона был опровергнут, он надеялся на чудо, слепо, истово, наивно. Лахман, застегнутый на все пуговицы, в огромном парике, прослушал легкие Параши и долго молчал, тяжело вздыхая.
Он славился необыкновенной вежливостью, даже крепостных называл по имени-отчеству и сейчас томился, не решаясь нанести удар графу.
— На матушку-природу отпустите Прасковью Ивановну, на кумыс, в степи.
Лахман строго следовал теории своего божества Руссо и мало прописывал декохтов и кровопусканий.
Граф не сразу вернулся к Параше, он долго ходил по роскошному зимнему саду, с раздражением смотрел на зеленые деревья, цветы — благополучные, сочные, яркие — и думал, что отдал бы все свое состояние, чтобы болезнь Параши исчезла, как дурной сон. Он не знал, что ей сказать, ведь она уже поговаривала о репетициях, уже затребовала ноты и читала их, поигрывая на гитаре; теперь он боялся ее отчаяния.
Но Параша, выслушав его, казалось, ничуть не огорчилась.
— Какое скучное занятие — оберегать свое здоровье, — сказала она, смеясь, и закашлялась. — Но от радости не умирают, а я нынче такая счастливая, что даже у диких людей на Севере не замерзла бы…
Через несколько дней Параша увидела, какие ей отделываются покои и поняла, что мечты о самостоятельной жизни вряд ли когда осуществятся. Хоть и сняли с нее цепочку, но клетка осталась — дорогая, раззолоченная. Но теперь держала ее не клетка, а странное, сложное чувство к графу. Тут были и жалость, и страх за него, и благодарность, и ощущение, что он пропадет без нее. Это она почувствовала сразу, когда очнулась, когда увидела его глаза и ужаснулась не за себя, за него — он постарел на двадцать лет в ту ночь…
Постепенно она поднялась, стала выходить из спальни, играть на арфе, клавесине, чуть шевеля губами, прикрыв глаза. Так она словно слышала себя, свой отлетевший голос. В павильон ее не пускали, о театре граф запретил упоминать, и она только мельком узнавала, что актеры в Москве пьянствуют, что актрисы совсем не слушают постаревшего «гусарского командира», особенно после внезапной смерти поставленного надзирать за ними Вроблевского.
Читать дальше