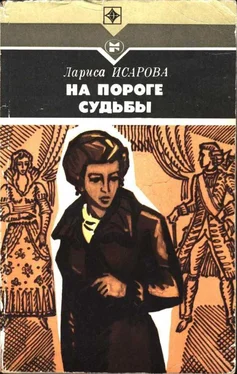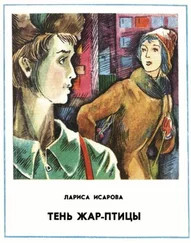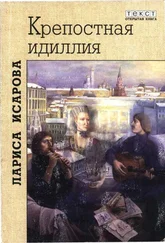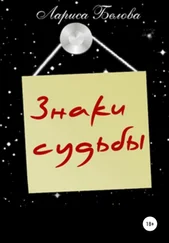Знал бы бедный Виталий Павлович, что его считают стариком!
— И о Лисицыне. Присосался к ней, жаловалась, как клещ…
— Кто к кому?!
— Она говорила, что он втянул ее в какие-то аферы… Но Лужина вовремя обо всем сообщила милиции и осталась в стороне.
— Бедная невинная девочка! — Антошка кипела. Митина наивность ее злила, кажется, даже больше, чем цинизм Ланщикова.
— А разве Лужина счастлива? У нее скоро будет трое детей и никакой специальности. Ей приходится вещи тайком продавать.
— Чьи вещи?
— Наследство от дедушки. У него в Кашире домик остался. Вот и попросила отнести вышивку к Серегиной. Муж ведет с ней раздельное хозяйство, представляете?
— Как это? — с одинаковым изумлением вскричали мы обе.
— Один месяц он платит за квартиру, другой — она, раз он покупает продукты, потом — она, у них и блокнот заведен, чтоб никто своей очереди не перепутал, сам видел.
Я растерялась. Неужели знаменитый муж, профессор, тихая пристань — фикция?!
— Позвоните Стрепетову, — повторил Митя.
Я решила пойти к Лужиной. Неужели и в этой истории с Марусей Серегиной замешаны мои бывшие ученики? И снова мысли мои перескочили. Интересно, почему теперь, после колонии, для Ланщикова «финансы» не проблема?
Возле квартиры Лужиной я замерла. Дверь ошеломляла своим торжественным старомодным дубовым великолепием. В центре огромной двери висела старинная табличка — эмалевая, голубая, в бронзовой рамке, а на ней изображено тончайшей золотой вязью, с ятями: «Профессор Белоногов». А сбоку двери, тоже в бронзовой рамке, под кнопкой звонка, еще один текст без ятей: «Профессору — один звонок, Лужиной — два».
Лужина открыла мне дверь, и я растерялась, настолько она изменилась. Нет, красива она была по-прежнему, но красотой отцветающей женщины. Дело не в полноте, еще терпимой. И не в старательно ухоженной запудренной коже. Поразили меня глубокие морщины, измявшие ее лицо. А ведь ей только двадцать семь — этой полной даме с крупными бриллиантами в ушах и в весьма несвежем халате.
— Прошу! — Лицо ее не дрогнуло при виде меня. Даже стало обидно. Все-таки бывшая ученица. Почти три года не виделись. Мы остановились в передней. Метров пятнадцать. Целый холл. Карельская береза, XVIII век, отличная музейная реставрация.
— Я все собиралась тебя навестить, но никак не могла выбраться. Это твоя коллекция?
— Частично. Большая часть вещей — мужа, остались от предков, я только реставрировала…
В комнаты она меня не зазывала, и я выстрелила наугад:
— Так надеялась застать у тебя Ланщикова…
Веки ее чуть дрогнули.
— Почему у меня? Мы с ним не виделись после его возвращения.
Секунду она колебалась, но здравый смысл победил неприязнь.
— Прошу в гостиную.
Я встала у порога большой светлой квадратной комнаты и с трудом сдержала улыбку, обзывая себя «снобом»: музейный интерьер, почти копия гостиной богатого помещичьего дома конца XVII века. Все сверкало, ни пылинки, ни пятнышка.
— Сама убираешь?
Она кивнула с творческой гордостью.
— Тебе стоило бы брать с гостей по тридцать копеек, как в музее, выдавая тапочки…
Она не улыбнулась, только рукой шевельнула, предлагая мне сесть. Непробиваема. Но в этой броне должна же быть брешь! Лужина в школе была импульсивна.
— Что за вышивку ты послала к Серегиной?
Угадала. Лицо ее вспыхнуло красными пятнами.
— Я ничего ей не посылала.
— Но Моторин сказал…
— Я могла тоже сообщить, что он велел мне отравить Серегину…
— Ты хоть слышала об этой вышивке?
— Я ничего не знаю.
Она легко приняла восемь лет назад ухаживания директора антикварного магазина Виталия Павловича, когда начала у него работать. Он был старше на тридцать лет. Кажется, она пыталась потом женить на себе Лисицына…
— Что-то не слышно детей…
— Гуляют. С аспирантом мужа. У меня специальная коляска для близнецов…
Она откровенно демонстрировала желание избавиться от меня. Я равнодушно смотрела на ее мебель. И тут я увидела у камина две небольшие овальные картины в великолепных рамах, увитых гирляндами бронзовых цветов, переплетенных бронзовыми лентами. Лица на портретах были мне знакомы. Он и Она. Оттянутые назад волосы, завитые буклями, заученно правильные улыбки, чуть приподнимающие уголки рта. Но ее глаза точно кричали от боли, пронзительно-трагические, униженные. Его — горделивые, уверенные в исполнении всех желаний — по праву рождения светили приветливо-равнодушно.
Читать дальше