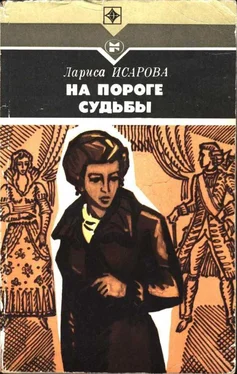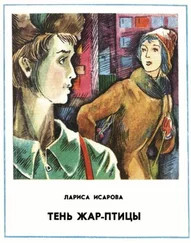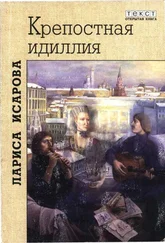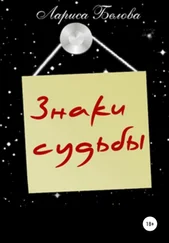Много месяцев назад, выйдя из больницы, Олег Стрепетов показал мне пожелтевший лист бумаги, заложенный в старинный сафьяновый бумажник с причудливой монограммой, и прочел вслух, легко разбирая полустертые буквы: «Но, видно, не мне назначена жизнь, которую называют счастливой. Я не роптал, считал детством и слабостью жаловаться на судьбу, но иногда задумываюсь: чем заслужил, какая вина лежит на мне, почему меня давит такой гнет?! И отвечаю себе: ты родился не в свое время, не у тех родителей. Один — гигант, одноглазый циклоп, другая — женщина лукавая и жадная к жизни, что для нее был внебрачный ребенок? Позор, а не память о великой любви». Я думаю, что по ее воле этого ребенка передали бы в бездетную семью зависимых от нее людей, но Потемкин восстал, в нем были чрезвычайно сильны родственные чувства, поэтому мой предок и остался дворянином… — голос Олега звучал раздумчиво. — Странное письмо, правда? Я нашел его у мамы, выпало из книги. Там еще лежало и письмо Воронцовой с такими строчками: «Зачем благодарить меня за дружбу, память, разве дружба с разлукой прекращается?!» Хорошо сказано?
— И у таких детей была мать — графиня Браницкая! Малограмотная, жадная, она продавала крепостных в розницу из выгоды, дарила ризы священникам и железо для цепей каторжникам, — удивилась я.
— Мой предок от нее отрекся, отказался от состояния, которое она должна была выделить ему, наверное, по воле Потемкина, сам пробивался в жизни.
— Это Ланщиков заинтересовал тебя твоей родословной? — спросила я.
Стрепетов так покраснел, точно я обвинила его в плагиате.
— Может быть. Раньше я пропускал мимо ушей мамины рассказы, а пока лежал в больнице — задумался. Я в ответе и за них, за их ошибки, преступления, жадные радости, безвольное смирение, гонор.
— Тебя это гнетет? — снова спросила я.
Олег неожиданно улыбнулся.
— Нет, я стихийный оптимист, я не умею смотреть в прошлое и лить покаянные слезы. Но моя жизнь должна приносить пользу, понимаете, не только мне, моим близким, но и другим, посторонним, чтобы уравновесить поведение, поступки тех, кто был до меня…
И добавил по-мальчишески восторженно:
— А все-таки контуры жизни маминого прадеда были удивительно причудливы. Сын богатейшей помещицы, непризнанный наследник, потом адвокат в Варшаве, дальше — каторжанин на Нерчинских рудниках. Он создал на Большом Нерчинском заводе кассу взаимопомощи вместе со своими польскими единомышленниками, библиотеку, они разбивали огороды, пробовали новые культуры в Сибири. Еще он обучал местных детей грамоте, языкам, музыке. Среди них и жену нашел.
Мне стало тревожно, когда я посмотрела на Анюту. Ее лицо ничего не умело скрывать, открытое до беззащитности, но Олег ни о чем не догадывался. А она каждое его слово воспринимала как руководство к действию. Однажды он сказал, что милосердие, забытое ныне слово, определяет суть человека, живущего не ради своего желудка или кошелька. Анюта тут же нашла в нашем переулке несколько старых больных ветеранов войны и активно начала их опекать, заставляя даже Мишу Серегина носить им картошку и мыть окна. Сама же два часа в день проводила у них, записывала воспоминания, покупала лекарства и разыскивала их однополчан.
— Интересные судьбы есть в прошлом любой семьи, — продолжал Олег, — надо уметь их найти. И тогда человек не может жить безрадостно, отсюда корни глубинного патриотизма — любовь к старине, в которой были всегда удивительные люди.
Разговор прервался. У Стрепетова было не так много времени на философствование, но его слова я часто потом вспоминала, разговаривая с моими нынешними учениками и их родителями. У них было мало интереса к прошлому родных и близких, некоторые даже удивлялись, когда я заводила беседы на эту тему. Фотоальбомы у большинства обрывались на дедах, бабушках, людях, родившихся в тридцатые годы, а кем были их прадеды и прабабушки, мои ученики знали редко.
Может быть, поэтому я часто вспоминала Ланщикова и его тоску, зависть, что в его «генетике» не было исключительных личностей. Он заявил на выпускном вечере, подойдя ко мне в перерыве, когда школьный ансамбль, им возглавляемый, запросил отдыха.
— Мир разделен на две неравные части. На тех, кто навязывает свою волю и живет, не подчиняясь законам, ими созданным, и тех, кто им верит и подчиняется. Я из первых…
А теперь, вернувшись из колонии, держался странно. Дело было не во внешности. Ушла уверенность, самодовольство, он точно тонул, понимал это и пытался выплыть, но беспомощно, впустую взмахивая руками. И я не понимала, о каких потомках известных фамилий он упомянул, провожая меня из квартиры Лужиной? Была ли тут связь с чтением «Записок правнучки», о которых много говорили в нашем районе?
Читать дальше