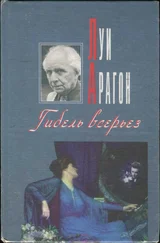Трудно было понять: одобряет кузина склонности Береники или нет. Музыка вдруг смолкла. Послышался голос Жизели:
— За стол!
Поданы были черешни, пирожки, острый сыр и белое вино. Ради такого белого вина стоило даже совершить сегодняшнюю прогулку. Да и коньяк, собственноручно поданный хозяином дома, почти не уступал вину, как, впрочем, и ликер для дам — дар господина Мореля. А все-таки предпочтение было отдано вину. Выпили еще по стаканчику и спросили у капитана, не желает ли он захватить с собой пару бутылок для своих товарищей.
— Что ж, пожалуй.
Морель продолжал все так же неутомимо болтать. О войне, о своем фарфоре; делился воспоминаниями о себе и о Жизели. О Жизели — и уже воспоминания! Кузина, немного под хмельком, затянула всем знакомую песенку из фильма. Из какого же фильма? С участьем Анри Гарра. Он там играет студента, который уезжает в провинцию… Гастон показывал Орельену старый семейный альбом, фотографии отца. Картинно запрокинув голову, Гастон вдруг стал декламировать поэму, написанную, как показалось Орельену, на провансальском наречии. И сам упивался своим чтением. Орельен делал вид, что слушает: глаза его были обращены к Беренике, безмолвной, задумчиво глядевшей в черную пустоту Беренике; она сидела, не двигаясь, только пальцы нервно вздрагивали, кроша остатки бисквита. Несколько раз прозвучали взрывы громкого смеха. Конечно, Жизель. В дверях появился испанец и снова быстро проговорил что-то, что заставило Гастона повернуться в его сторону.
— Нет, нет, Антонио. Не надо. Спасибо.
За окнами запел лягушачьими голосами синий мрак.
— Как жарко! Вы не находите? — сказала Береника.
К кому обращалась она? Ко всем и ни к кому. Во всяком случае, не к Орельену, не в первую очередь к Орельену. На эти слова ответил Гастон, но — не ей, а Орельену:
— Не желаете ли посмотреть сад?
Было и в самом деле жарко. Белое вино ударило в голову. Орельен прошел в смежную комнату, еле освещенную пучком света, шедшего из кухни, и задержался, пропуская впереди себя Беренику. Они остановились у самого входа в сад. Подождали. Никто не последовал за ними.
Ночь стояла безлунная, беспросветно-темная. Сад казался черной ямой с утонувшими в ней каштановыми деревьями. Он вытянулся в длину между двух приземистых стен, за которыми угадывалось поле. В углу сада возвели что-то вроде дачной беседки: скамейка, круглый стол. Сад был запущенный: дорожки заросли, опавшие каштаны валялись под ногами. Молча продолжали они идти вперед, словно этот отрезок пространства мог и впрямь отдалить их от дома. В конце сада стена нависала, как балкон, над полем. Все исчезало в густом мраке, не позволявшем ощутить даже очертания пейзажа. Жара так и не спала. Стрекотали кузнечики.
— Как удалось этому испанцу избежать концентрационного лагеря? — спросил Орельен.
Он спросил лишь потому, что хотел звуком собственного голоса нарушить эту тишину, рассеять разлитую во всем тревогу. В ночном саду Береника снова стала милой его сердцу Береникой 1922 года. Орельен удивился, поняв, что Береника услышала его вопрос. Да, услышала. И ответила почти бесстрастным голосом:
— У Гастона есть связи… Он поручился за Антонио.
Орельену показалось вдруг, что все существует лишь для того, чтобы он, Орельен, мог измерить пропасть, отделяющую его от Береники.
— Вам нехорошо, дорогой друг?
Вопрос прозвучал в темноте, как звон случайно задетой струны. Ему хотелось бы сказать Беренике… Не в их власти выбирать… Молодость не вернется; но ведь они стали песней друг для друга. И это останется. Он сказал только:
— Береника.
Ее имя растворилось в бездонном молчании, в молчании, способном поглотить все, что он никогда не решался сказать ей, все, что он ей уже никогда не скажет.
— У вас ведь есть дети, — сказала она. — Как это странно, как чудесно… Завидую вам. Я была бы рада увидеть ваших детей. Может быть, мальчик похож на вас, а у девочки — ваши манеры.
Он прошептал:
— Мальчик похож на меня…
В воздухе что-то зашелестело, шелестом крыла, почти над их головами. Орельен увидел, вернее почувствовал, что Береника поднесла руку к волосам. Поняла ли она, что Орельен уловил ее жест? Она сказала:
— Это не летучая мышь?
— Не думаю.
Итак, Береника мечтала иметь детей… Верно ли это? Но ей незачем было говорить неправду, притворяться в этой темноте. Орельену хотелось сказать что-то. Доказать, что она на высоте положения. Всю жизнь он страдал от мысли, что он не на высоте положения. Но никогда еще это чувство не было столь острым.
Читать дальше