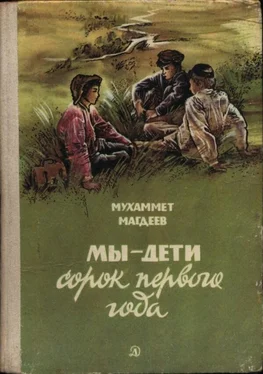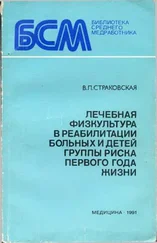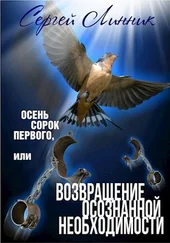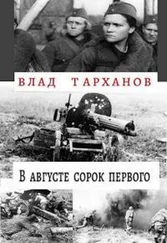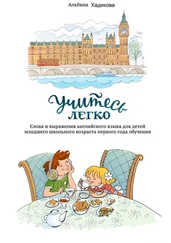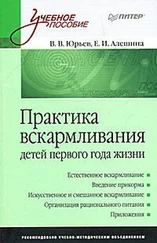Нет, спортивный вопрос в училище, конечно, был поставлен слабовато. Физическое воспитание — если не считать зимы, когда нас изредка заставляли ходить на дубовых, толщиною в три пальца и весом в добрый пуд, корявых лыжах, — отсутствовало напрочь. Да и на зимних-то соревнованиях всяческих неувязок было не счесть: не хватало, например, лыжных палок, отчего нам порою приходилось прямо на дистанции выдергивать дорожные маяки-указатели; рвались истлевшие кожаные крепления — казенным лыжам, видно, здорово не нравилось, что их попирают какие-то там деревенские лапти. В прошлую зиму, скажем, во время кросса чуть ли не первой финишировала… одинокая лыжа Аркяши (финиш находился за очень длинным и очень пологим спуском). Самого Аркяшу ждали еще примерно минут двадцать; прошедший пять километров против холодного, пронизывающего ветра и сильно замерзший Аркяша на финише скрючился и, засунув руки между ног, долго скрипел зубами: плакал. А в училище, наверное по причине военного времени, физруков хороших не бывало, и даже единственный шаткий турник, плохо укрепленный на еловых светлых столбах, проржавел насквозь и прогнулся…
В противоположном же конце парка, откуда стало совсем не видно военно-морских красавцев, парни обнаружили турник новехонький, с гладкой чистой перекладиной и для прочности растянутый железными цепями. Вокруг не было ни души, и парни, решив испытать свои силы, встали все вместе под эту самую выкрашенную в черный цвет длинную стальную перекладину. Альтафи, правда, тут же велел всем отойти на три метра, потому что вознамерился крутить «солнце», но из намерения его ничегошеньки, кроме голого хвастовства, не получилось. После довольно-таки продолжительных и безуспешных попыток Альтафи все же сдался и, похохатывая, отошел в сторону. «Мяса на мне лишнего наросло — ужас, а, — сказал он в оправдение, — худеть надо», — после чего с уважением потрогал свои ляжки. Тогда попробовали подвесить на турник худощавого Аркяшу; подняли его втроем и действительно подвесили. Покачавшись пару секунд на легоньком ветру, Аркяша обрушился на землю… Гизатуллин же подмогу товарищей решительно отверг: он докарабкался до высоты перекладины по столбу и дальше уже без особого труда перебрался к середине турника. Хотя Гизатуллин грозился подтянуться восемь раз, ему, видно, помешало то, что рубаха его выбилась из штанов и задралась до самого пупа, в то время как сами штаны упорно пытались сползти до колен. Ну, а поскольку висеть в неприкрытом виде Гизатуллину было очень не по душе, он брыкнул раз-другой в воздухе ногами, казалось выросшими самым неожиданным образом на пустом мешке из-под картофеля, да и последовал себе путем давеча обрушившегося на землю Аркяши. Одному Зарифуллину удалось раз пять дотронуться усеянным желтыми волосками тугим подбородком до недосягаемой для остальных перекладины…
Не хватает нам чего-то — силы, ловкости, удальства ли, уж больно жидкие из нас молодцы, проклятье! Знаний вот всяческих — тех в нас хоть отбавляй, от знаний головы пухнут. Аорта-плевра, сангвиник-холерик, ахтунг-дифтонг — каких только вещей мы не знаем, хороших и разных… Гизатуллина возьмите; есть ли на свете такая хитрость, чтоб этот в меру прилежный студент да о ней не ведал? Ого! За годы, проведенные в училище, много усвоил он приемов и способов, облегчающих утомительный труд студента, запомнил их накрепко и надолго. Люди некоторые мучаются, скажем, когда дело до падежей татарских [29] В татарском языке, как и в русском, шесть падежей: именительный, притяжательный, направительный, винительный, исходный, местовременной.
доходит: то есть который падеж за которым? Или где стоит, допустим, падеж направительный? Гизатуллину, чтоб вспомнить весь этот порядок, достаточно на секунду прикрыть глаза да пошевелить молча губами… Потому что «имя падежа находится в известном месте». Шесть слов, шесть начальных букв: и, п, н, в, и, м — пожалуйста, можете на уроке татарского языка сидеть гоголем и ничего не бояться. А если урок русского языка? Здесь и того легче, лишь бы глаза прикрыть не мешали… Только на этот раз выручает пресловутый Иван.
«Иван родил девчонку, велел тащить пеленку». Подобный метод спас Гизатуллина даже на физике: а уж ведь такая, казалось бы, страшная наука! Помнится, когда изучали цвета спектра, Гизатуллин чуть даже не погорел ярким пламенем и еле-еле успел отстоять стипендию; а все почему? Не мог запомнить порядок цветов этой чертовой радуги. Смешно! Кто же думал, что законный порядок столь важен? А если за красным будет зеленый, ну? Чем хуже? Неужто не все равно, который цвет с каким соседствует? Нет, выходило, что не все равно. Выходило, что такая, примерно, разница, как между получением стипендии и, так сказать, отлучением от нее. Когда это дошло до Гизатуллина, он не спал всю ночь и к утру сочинил замечательную песню. Кстати, впервые в жизни! Песня говорила о недюжинном эмоциональном заряде, скрытом глубоко в тайниках души Гизатуллина, и, самое главное, послужила как бы искупительной жертвой, принесенной злому церберу физики: вот так был спасен Гизатуллин, так он перешел коварный радужный мост.
Читать дальше