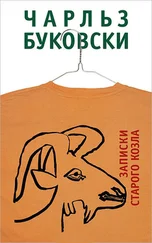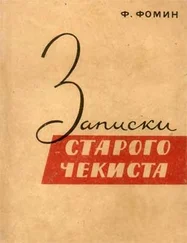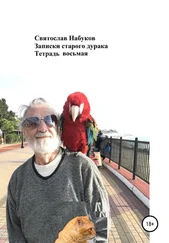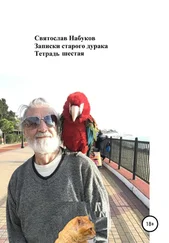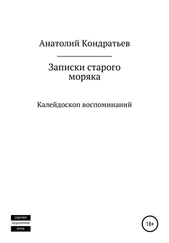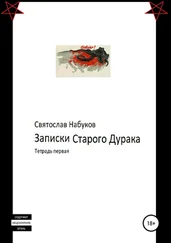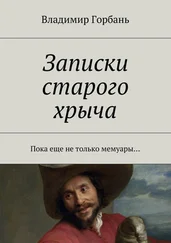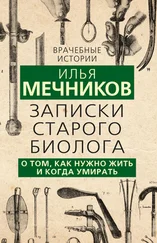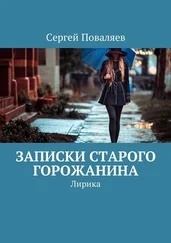Такова судьба балета Дягилева, в свое время сыгравшего, несомненно, важную роль в развитии русского балета. Но вернемся к тем временам…
Балетной критики как таковой в Москве вообще не было. В Петербурге писали о балете такие авторитеты, как Волынский и Плещеев, в Москве же не было никого, а крупные драматические и музыкальные критики не «опускались» до рецензий о балетных спектаклях.
В Москве выходило много газет: академические «Русские ведомости», на страницах которых перебывали в свое время подписи многих классиков русской литературы; сытинское «Русское слово»; считавшаяся наиболее авторитетной, очень популярная газета «Раннее утро» Казецкого и его же бульварный «Русский листок»; сухая и мертвая газета «Утро России» миллионера Рябушинского; гучковский «Голос Москвы»; уличный «Московский листок» Пастухова; псевдорабочая «Газета — копейка»; ходкие «Вечерние известия» и, наконец, монархическо-черносотенный орган князя Мещерского — «Московские ведомости», которые почти никто не читал.
Во всех этих газетах фактически не было рецензий о балетных спектаклях. То есть они печатались, но их поручали репортерам, и все они сводились приблизительно к таким стандартным формам:
«Вчера открылся балетный сезон.
Был поставлен балет «Конек-Горбунок» с г-жой Гельцер в роли Царь-Девицы, которая имела большой успех и неоднократно выходила на вызовы публики. Г-же Гельцер были поднесены цветы. Имели успех и г-жа Федорова 2-я в роли «любимой жены хана» и г. Рябцев в роли Иванушки. Очень милы были в «Коврах» г-жи такие-то и в «нереидах» г-жи такие-то. Среди публики мы заметили: г-жу Вострякову (платье из матового шелка, цвета «гри-перль», с плиссе и отделкой из панбархата темно-серого тона — модель из парижского дома сестер Калло), г-жу Морозову (роскошный туалет, цвета «шампань»)»… и т. д. и т. п.
Этот перечень занимал ровно вдвое больше места в газетной колонке, чем вся «рецензия». Нас было немного, молодых журналистов, увлекавшихся балетом, сидевших месяцами на уроках в балетных школах, изучая наглядно премудрость классического танца, посещавших все балетные спектакли и прочитавших о балете все, что тогда было возможно: три богато изданных тома «Истории балета» Худякова, еще более роскошный фолиант Светлова, «Письма о балете» Новерра, брошюру Айседоры Дункан, а позднее и книгу Андрея Левинсона «Старый и новый балет»; некоторые из нас были даже знакомы с трактатом Морриса Эммануэля, который путем сопоставления 600 фотографий современного классического балета с 600 рисунками античной вазовой живописи доказывал полную преемственность классического танца от античного, в котором даже «пуанты» существовали в виде «крепидов» древней Эллады.
Когда нас допустили до балетных рецензий, мы категорически отказались писать о том, кого «среди публики мы заметили…» Нам в этом уступили, поручив столь важный раздел репортерам и отделяя его от наших рецензий звездочками в тексте, но мы быстро добились и полной отмены «рецензий» о дамах московского общества и их туалетах. Мы старательно писали серьезные рецензии, добросовестно разбираясь и в музыке, и в постановке, и в качестве исполнения.
Появился, правда, один по-настоящему серьезный и эрудированный балетный критик — Александр Черепнин, писавший большие статьи о балете, экспериментируя при этом эстетическими формулами Бенедетто Кроче, который, впрочем, сам в своей Италии докатился впоследствии на этих формулах до махрового фашизма. Черепнин, с которым я в дальнейшем сдружился, строго следил за нами и не прощал нам «ляпсусов», не стесняясь бичевать нас печатным словом. Благодаря ему мои товарищи по перу называли меня одно время «индусом», так как в рецензии о «Баядерке» я пустился в этнографические рассуждения, и Черепнин, несмотря на нашу дружбу, высказал в своей статье о моей рецензии мнение, что ее, по-видимому, писал «индус, только что приехавший с берегов Ганга…»
Некоторые из нас писали сразу для нескольких газет и журналов. Знания, вкусы и понимание у нас были разными, каждый из нас был в своих рецензиях по-своему пристрастен, но это пристрастие не было ничем осквернено. Кто-то из нас не совсем складно, но с молодым задором изрек:
— Пристрастие — это темперамент журналиста!
Но «пристрастие» одного из наших товарищей — Элирова перестало нам нравиться. Мы заметили, что Элиров, по-видимому, преклоняется не столько перед талантом Балашовой, сколько перед миллионами ее мужа — Ушкова. А Элиров вскоре забегал и захлопотал: он собирался издавать свой театральный журнал. Деньги на журнал давал Ушков. Элиров предложил всем нам дать в журнал свои статьи. Мы отказались. Журнал вскоре вышел в свет. Он был сереньким, бесцветным и внешне неприглядным. Ушков, видно, скупился. Да и цель не была достигнута; не удалось привлечь и приручить «балетную критику». Незаметно появившись, журнал через два номера тихо испустил дух…
Читать дальше