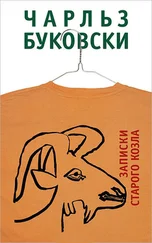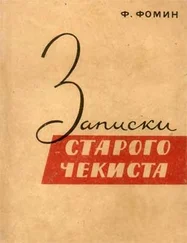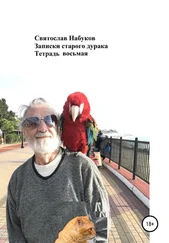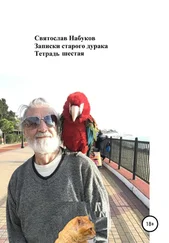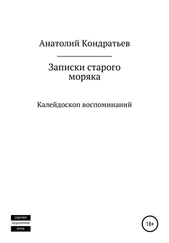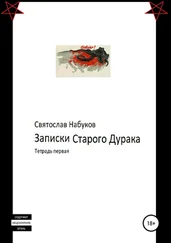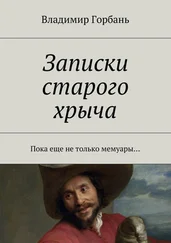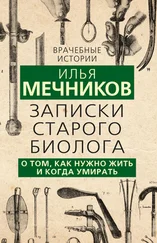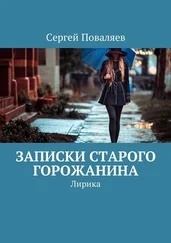Уже в более поздние годы Викторина Кригер возглавила созданный ею театр Московского художественного балета, из которого в дальнейшем родился прославленный балет Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Викторину Кригер знают и по частым выступлениям в печати и по радио. Ей присвоено звание заслуженного деятеля искусств, а за исполнение партии мачехи в балете С. Прокофьева «Золушка» она была удостоена звания лауреата Государственной премии.
Была еще одна, уже не молодая танцовщица, которой как-то не повезло. Она дебютировала когда-то в «Спящей красавице» и так и застыла, не эволюционируя и не регрессируя и оставаясь на «феях Сирени» и «Голубых птицах». Это была Вера Ильинична Мосолова 1-я, высокая и веселая женщина, с пронзительным голосом и решительными манерами эскадронного командира. Несмотря на свою кипучесть, энергию, жизнерадостность и тяготение к людям, она была удивительно одинока, жила одна в отдельной квартире дома графа Ностиц, стоявшего на горе прямо против Большого театра.
Когда-то она вышла замуж по любви за будущего русского посла в Париже Нелидова, но быстро с ним рассталась. В «Климе Самгине» Горький вспоминает о помощнике Нелидова — графе Ностиц, женившемся на какой-то женщине, которая раньше показывалась, плавая в аквариуме лондонского мюзик-холла с рыбьим хвостом.
В доме этого самого графа Ностиц Вера Ильинична Мосолова, долго возглавлявшая свою балетную школу, много лет потом работавшая в театре Станиславского и Немировича-Данченко с оперными артистами, как тренер по художественному движению, была найдена однажды в постели, через несколько дней после одинокой смерти, со склянкой сердечного лекарства в руках.
А время шло, семилетний антракт в балетной школе давно кончился, и там созревал уже новый молодняк в лице Абрамовой, Кудрявцевой, Банк и Ильющенко, которые пока в страшном волнении, но с сияющими от радости лицами по очереди прыгали «амурами» с золотой стрелкой в руках и с серебряным колчаном за спиною в самой ответственной партии для учениц — в «саду Дульцинеи» не сходившего со сцены балета «Дон-Кихот», в котором ничего не осталось от Сервантеса, так же как в «Корсаре» от Байрона и в «Жизели» от Теофиля Готье.
Молодое поколение зрителей, любивших искусство балета, и мы — небольшая группа свежеиспеченных балетных критиков — слыхали о «знаменитой» реформе балета, которую когда-то произвело Министерство императорского двора и которая если не погубила русский балет, то значительно его обескровила. В тот год министерство произвело без достаточных к тому оснований большие сокращения в петербургской и московской балетных труппах. Эта «реформа» давала себя чувствовать более четверти века и способствовала увяданию классического балета в России. Лишь в 1908 году замечательный русский балетмейстер А. А. Горский влил свежую струю в это умиравшее искусство и оживил его, но настоящий расцвет балета начался лишь после дягилевского «русского сезона» в Париже.
Дягилевский «русский балет», собравший целое созвездие мастеров петербургского и московского балета, долгие годы гремел во всех частях света, не заезжая, однако, никогда в Россию ни до революции, ни после нее. Сам Дягилев умер в двадцатых годах, а созданный им театр, пережив в свое время развал, а затем ряд деформаций, продолжил свое существование, заменив имя Дягилева на своей марке — «Русский балет» никому не известным именем — де Базиль…
В первую мировую войну казачий подъесаул Василий Воскресенский находился в русских частях на персидском фронте, затем оказался в оккупированном англичанами Баку, примкнул там к эсерам и как «уполномоченный Центрокаспия» принял участие в расправе над героическими 26 бакинскими комиссарами. Позже Воскресенский подался к белым, вступил в белогвардейскую Добровольческую армию и с разгромленными остатками ее бежал из Крыма за границу, где женился на одной из незначительных танцовщиц труппы Дягилева.
После смерти Сергея Дягилева его театр распался на два «товарищества». В одной из трупп еще оставались Михаил и Вера Фокины, Леонид Мясин и Лифарь. Основной состав дягилевского театра старел, в труппу вливались новые силы — барышни из белоэмигрантских семей. Оба «товарищества» прибрал к своим деляческим рукам некий де Базиль, который обновил их составы, принимая в труппы девиц из привилегированных эмигрантских кругов — дочерей бывших миллионеров Морозова, Рябушинского и других. Но русских танцовщиц и танцовщиков не хватало, и разбогатевший де Базиль, о котором никто не знал, а многие и теперь не знают, что он и казачий подъесаул Василий Воскресенский — одно и то же лицо, пополнил свою труппу англичанками, и даже главным дирижером театра оказался также англичанин, но труппа эта по-прежнему разъезжала по всему свету под маркой «Русский балет»…
Читать дальше