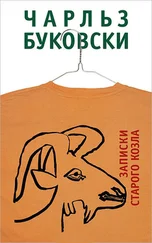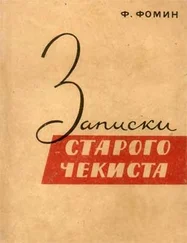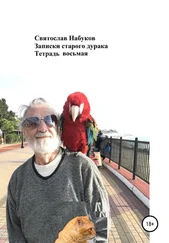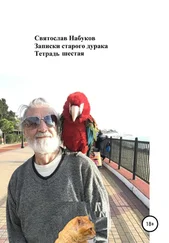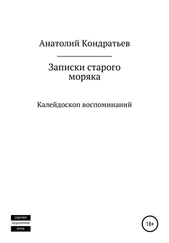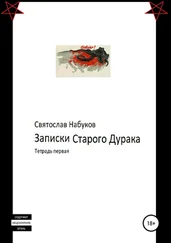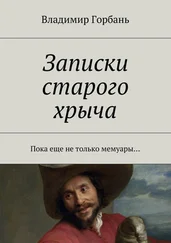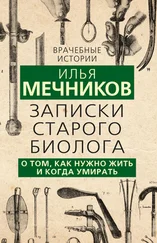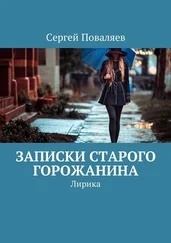ГЛАВА III
А в России настоящий революционный подъем. Не иной какой-либо, а настоящий революционный.
(В. И. Ленин. Из письма к А. М. Горькому на Капри, 1912 г.)
Я нарочно помянул одни мелочи. Микроскопическая анатомия легче даст понять о разложении ткани, чем отрезанный ломоть трупа.
(А. И. Герцен. «Былое и думы»)
Иго. — Оранжевый угар. — Ночные «развлечения». — Денные «развлечения». — Театры. — Пост. — «Верба». — Пасха. — Красная горка. — «Дешевка». — Девятый вал.
Москва белокаменная, златоглавая… Москва купеческая, дворянская, мещанская, сытая и голодная, пьяная и молящаяся, сонная и разгульная…
Москва жила на своих семи холмах, тихонько расплываясь и не спеша прихватывая окрестные пригороды… Гудели благовестом московские храмы, заливисто тренькал колокольчик конки, щелкали звонки трамвая, гремели железными ободьями по булыжным мостовым ломовые, трещали обтянутые резиной колеса извозчичьих пролеток, шелестели дутые шины лихачей и редких автомобилей… Огромные кареты, с кучерами без шапок, развозили по лавкам, домам, школам и присутствиям большие чудотворные иконы для совершения молебствий. Трепетали огоньки сквозь настежь раскрытые двери часовен. Звонили колокольни Страстного, Андроньевского, Донского, Зачатьевского, Скорбященского, Ново-Девичьего монастырей. Шла служба в двух этажах большой белой церкви Параскевы-Пятницы, крепко вставшей поперек площади Охотного ряда. Толпился народ в часовне Иверской божьей матери, прилепившейся к стене между двумя узкими Воскресенскими воротами, ведшими на Красную площадь, и блиставшей золотыми звездами на кубовом куполе. Мерцали свечи в серенькой часовне Александра Невского, загородившей въезд в тесную Моховую. Высокая и широкая Триумфальная арка, ныне восстановленная и перенесенная на проспект Кутузова, преграждала выезд на Петербургское шоссе и к шумным подъездам Александровского вокзала. Извозчики, ломовые, пешеходы, трамваи, торопившиеся к трем вокзалам на Каланчевскую площадь, обходили и объезжали громоздкие и аляповатые Красные ворота.
Москву украшали… На исполинский бронзовый трон водрузили огромную фигуру Александра III, посадив его задом к храму Христа-спасителя и лицом к Москве-реке, грязной от сточных вод и мелкой. На красном кирпичном здании Исторического музея десятки лет белела единственная метлахская узорчатая плитка, которыми отцы города задумали облицевать весь фасад, но так и не облицевали. Толчеей из извозчиков, дорогих колясок, карет и гуляющей публики на углу Кузнецкого и Петровки управляли толстый пристав, городовой и окаменевший, верхом на рыжей лошади, синий жандарм с белым султаном на шапке. Как раз позади толчеи весело зеленел травкой огороженный железной решеткой большой треугольник, за который владелец земли требовал от города сотни тысяч рублей.
Здесь, в центре, на улицах продавали живые цветы, привезенные из Ниццы в Москву на льду. Из Москвы за границу везли на льду живых стерлядей с намоченными коньяком комочками ваты за жабрами. В крещенский трескучий мороз в больших зеркальных окнах магазина братьев Елисеевых белели коробки с уложенными в ватные гнездышки крупными ягодами клубники «Виктория», по три рубля коробка. «На Иордани» шло торжественное молебствие и белели тела голых людей, окунавшихся в ледяную прорубь. На «масленой неделе» в городе стоял блинный чад и шло катанье на тройках, «голубцах» и в широких розвальнях. Гремели бубенчики, бренчали колокольцы, из-под полозьев бежали отполированные полосы примятого снега. Таяло… Сытинские настольные календари с изображением царской семьи на многокрасочных обложках самым серьезным образом сообщали о предстоящей на каждый день погоде — «по Брюсу», составившему свои «предсказания погоды» 200 лет назад. В «городских происшествиях» писали о купцах 1-й и 2-й гильдий, съевших на пари по полтораста блинов и скоропостижно скончавшихся. В «чистый понедельник» великого поста под белой стеной Китай-города далеко раскидывался грибной рынок. В Благовещенье на птичьем торге Трубной площади выпускали на волю щеглов, чижей, снегирей, зябликов. От площади до самой Садовой тянулась узкая Драчевка, плотно забитая публичными домами. В пасхальную весеннюю ночь Москва толпилась на соборных площадях Кремля, колыхалась и тихо гудела, ожидая первого густого удара Ивана Великого, за которым, точно очнувшись от тихой дремоты, сразу вступали, колотя языками в медные глотки, звонари всех сорока сороков, всех 387 московских церквей. У галереи памятника Александру II несли караул увешанные медалями древние столетние гренадеры в аршинных меховых шапках…
Читать дальше