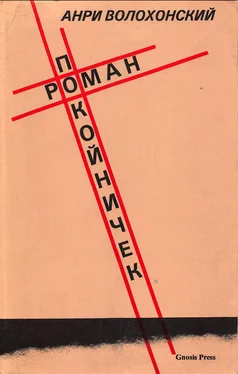И всех нас должны были бы сделать такими Иосифами.
Это и есть социальная революция:
Тощие коровы съели толстых коров —
И все осталось как было
Как ни в чем не бывало.
Надо же так неправильно разгадать в свою пользу прозрачный, как воздух, сон!
А Прометей пусть себе висит, сколько хочет.
И висит он, прикованный к телу Кавказа,
А все нет амнистии — нету указа.
Но с орлом-то он, верно, не в шашки играл.
А, может, это был вовсе и не орел?
Кто же тогда, если не орел?
Тем более — Прометея очень любили, кому положено.
Ну — закурил, где не положено, но вешать — за что?
Но сажать — за что? Жалко…
— Кого тебе жалко?
— Мне жалко орла. Потому что мы его отменили. Не ложился в схему. Лучше бы мы его тоже посадили. Посидел бы, набрался бы жизненного опыта, конкретно познакомился бы с простыми египетскими потребностями, с виночерпием тоже, взвесил бы насчет коров с царственным директором столовой, пошел бы все выше, все выше и выше стремить полет наших птиц, как у моего дорогого друга Артемия Бенедиктовича Ведекина — Будыкина — Видокина в заугольный киндергартен рефлексирующего подсознания.
Манеры бы у него хорошие появились, к примеру, питался бы одними фениксами, вещими птицами средневековья, или по-нынешнему — попугаями собственных инкарнаций, попросту — седыми попугаями, а клювы бы вешал на веревочку и бусы на шею надевал выходить на приемы. Вот, говорили бы, — что за министр у нас! Орел! Горный!
А то — это что? Это разве люди? Это разве лица? Упыри несуществующие, а не лица. А так — был бы у нас орел. Или зяблик. Тоже — малая птичка, а полезная. Это она, ведь, царскому хлебодару зернышки на голове клевала — верно, думала, ну — там, под ребрами. Ошиблась, маленькая. Ишь, прощелыга!
Ах ты, дятел мой, птица весенняя.
Тук-тук-тук — первомайская!
Сердце мое — тук-тук-тук,
Креолка!
* * *
Я совершенно не убежден, что добрая доля пробормотанного и отчасти пропетого моими друзьями не есть мое собственное бормотание, но услышанное мною как бы от их лица. Даже если это и так — не столь важно. В следующий раз все может выйти противоположным образом. Но своя небольшая идея у меня все же была. Меня изводил в связи с этим трагический персонаж Мосье Трике из оперы «Евгений Онегин». Мне, наверное, хотелось что-то кому-то доказать, убедить, предостеречь, — но тут возникал французик из Бордо, аристократическое происхождение которого обеспечило ему после бегства на ловлю счастья и чинов из терроризируемой Франции высокое социальное положение гувернера с правами друга семьи в московском интеллигентном доме, и едва он там, натягивая грудь, разевал рот, чтобы — доказать, убедить, предостеречь — как врывался путешествующий «только что оттуда» Чацкий и выписывал ему билет — танцмейстер! можно ли-с? — в сельскую местность, где он вместо бель-Нина поставил бель-Татияна и на обломках самовластья напишут наши имена.
Невозможно было сказать эти самые имена. Не попросить ли теперь их нынешних ко всенародному покаянию?
Но не этим пером будь писанная картина шестисотшестидесяти с чем-то водянистых харь, биющих себя в перси согласно особенному постановлению, вызвала в моем душевнотелесном составе такое кружение, тошноту и муть, что сила духа не в состоянии была более его поддерживать, и оно рухнуло куда-то, провалилось и совсем исчезло.
Эвое! Иакх!
Слава прозрачному Дионису Пролетарскому!
Хвала Мутному Бахусу Сельскому!
Привет белому Бромию Беспартийному!
Горячий привет благоуханному желтому Нисийскому
Богу Генеральскому и Адмиральскому!
Навеки славься знаменитый розовый Либер Запада
и Востока!
Да здравствует ежегодный международный пузыристый
Вакх Всенародный!
Пусть живет и крепнет нерушимый и пенный Союз
Похмелья и Бормотухи!
Утро застало нас у пивного ларька. Процессия являла жалкое зрелище. Только майоры прилично топали, однако тоже неискренне. Сивый мелькал кругом, как в стекле. Все временно распадалось, и представился хороший случай где-нибудь отсидеться. Стоило бы затеять разговор, но кости головы трещали так, что не пошевельнуть. Перед глазами висела подлинная надпись: «Красноярский Пивзавод Красноярского Завода Безалкогольных Напитков». Надпись была на высокой плоской пустой арке над ларьком, а дальше шел прозрачный забор. Я вспомнил рассказ про одну старуху-переводчицу, которую посадили на восемнадцать лет, обвинив в шпионаже в пользу, кажется, Земли Королевы Мод. Отсидевши свое, она уже глухая вернулась на наши берега. Дряхлые подруги водили ее гулять через Дворцовый мост.
Читать дальше