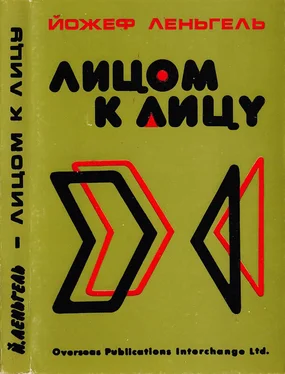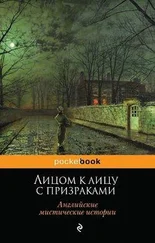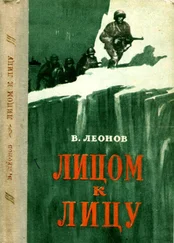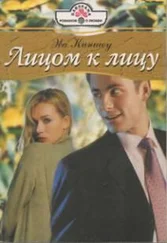— Да, по-другому. Но и у нас было разное: как-то охранник пришел за мной и повел в подвалы, подталкивая дулом ружья в ребра. Мы шли по бесконечным пересекающимся подземным переходам. Сколько мы шли? Я потерял меру времени. Часы, может быть, минуты. Вполне возможно, даже очень вероятно, что только минуты. Я ждал пули в затылок. Но мы все шли и шли в этом подвальном лабиринте. Во дворе стояли фургоны КГБ с заведенными моторами. Я начинаю понимать: для того, чтобы заглушить выстрелы… Про это рассказывали. Но мы все идем. Потом внезапный толчок дула направляет меня к какому-то отгороженному закоулку. Кафельные стены, течет вода. Значит, здесь… Потом они смывают кровь. «Раздевайся!» Спокойно снимаю одежду, спокойствие приходит ко мне. «Входи!» — он показывает винтовкой на дверь. Открываю дверь: краны, души. Он говорит: «Обожди», и вручает мне обмылок. После бани ведет меня наверх, передает меня в другие руки; там меня заталкивают в фургон и назад в Таганку… Ничего страшного, в конце концов. Но с той поры я знаю, как приходит смерть, я понял, что жизнь — ничто и все в одно и то же время. Впрочем, вам это так же хорошо известно, как и мне.
— Это случилось на Лубянке?
— Да, но не на большой Лубянке, не в главном здании. Там сидели большие шишки, те, кого взяли центральные органы. А я попал всего лишь на Лубянку № 14, может быть, как раз в этом мне повезло. Ордер на мой арест выдало московское областное НКВД, я был в его ведении. Кстати, тот, кто подписывал мой ордер, спустя месяц сам стал трупом: расстрелян. Его звали… Забыл. Черт с ним. Пусть не почиет в мире. Тогда у него уже была репутация… Но и Ежов полу-годом спустя превратился в труп. Под карикатурами писали: ежовые рукавицы. Мне лично все эти трупы не помогли, да и не помешали тоже. Мне наплевать на Ежова и на того, другого. Меня интересует только один человек: младший лейтенант Маркусов, жив ли он?
— А кто он?
— Он избивал меня. Вот этими руками, — говорю я очень медленно, подчеркивая каждое слово, — я подвесил бы его к люстре за яйца, а госпожу супругу посадил бы на него в качестве балласта… Ну, это я вздор несу. Не смог бы. Но ты ошибаешься, если считаешь, что страдания облагораживают.
— С немцами было иначе, — бормочет он. Потом отводит взгляд и внезапно снова на меня смотрит: — Снаружи не видно, что вас так пытали.
— Нет. Ведь я подписался на точечках внизу листа, что я был диверсантом и шпионом.
Он глядит на меня, точно проглотив язык, потом роняет ледяным, режущим тоном:
— Мы никогда не делали таких вещей. Скорее смерть.
Он уверен, что теперь-то он взял верх.
— Только, дорогой товарищ, у вас было за что бороться, за что умирать. А у нас украли даже это — нашу моральную силу. И к тому же, нам легко тоже не было. Иначе мне бы не запомнился по сей день младший лейтенант Маркусов. Однажды я подписал признание, что намеревался убить Димитрова, а потом, в камере, отрекся от признания. Меня опять вызвали на допрос. Я опять подписал. И так продолжалось пятнадцать месяцев, до тех пор, пока меня перестали вызывать. Они просто бросили мной заниматься. А я получил свои восемь лет. Нас вели, по сотне за раз, мимо маленькой будки. Каждому сквозь какую-то щель протягивали для подписи клочок бумаги. В этой бумажке говорилось, что мы ознакомились с приговором, вынесенным особым совещанием, или, в другой версии, чрезвычайным судом. Ровно через день нас погрузили в продовольственные фургоны, набили сорок этих фургонов. Мне пришлось отсидеть не восемь, как говорилось в бумажке, а почти десять лет. Но несмотря на это, показаться здесь, в Москве, для меня — преступление.
Он еще раз наливает чай. Сначала мне, потом себе. Его стакан полон, но он все льет. Замечаю это я, а не он. Мы вскакиваем, тычем салфетками в лужицу, как напроказившее мальчики. Потом я продолжаю:
— Меня арестовали в феврале. Первого мая было обострение режима в тюрьмах. А третьего один из товарищей крикнул мне в отверстие банного вентилятора: «Смотри, видишь вон там красный флаг?»… Потому что все это время мы были уверены, что попались в лапы контрреволюции. Вот как…
— Нас поддерживало сознание нашей будущей и неизбежной победы.
— А нас поддерживало бешенство. Кроме того, вся эта ситуация была такой иррациональной. Они — социализм, мы — «враги народа». И это бешенство, даже гордость, позволяла нам, побежденным, презирать позор победителей.
— Мне кажется, вам это пришло в голову позже. Побежденные не борются за жизнь.
Читать дальше