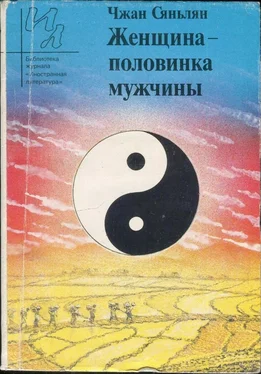Мы — коммунисты,
Мы — зерна будущих всходов!..
Когда пели про «будущие всходы», молодые заключенные поглядывали на тот берег. Начальнику на слова песни было наплевать, лишь бы звучало звонко. Если нравилось, одобрительно ворчал привычное «сукины дети». Это уже потом охрана через свое начальство обратилась в Управление исправительных лагерей, и оттуда спустили приказ: «В нынешний, насыщенный революционными событиями период заключенным разрешается петь только «Если с реакцией ты не стакнешься, то на пути никогда не споткнешься». А позднее, в шестьдесят седьмом, начали громить все подряд органы общественной безопасности, юстиции и тому подобное, начали устанавливать везде военные порядки. Отношения между «благородными» представителями армии и «черной костью», то есть бывшими крестьянами, ставшими лагерной администрацией, строились по формуле «плебеи — верх ума, благородные — верх глупости». О песнях же тогда разъяснили так: цитаты и лозунги рассчитаны на непосредственное восприятие, они так универсальны, что могут быть использованы всяким вне зависимости от классовой и фракционной принадлежности по своему усмотрению. К примеру, ты поешь про «реакцию», и рядом кто-то поет ту же песню. А что, если под «реакцией» он подразумевает нечто совсем другое? Тебе откуда знать? Откуда тебе знать, кого имеют в виду отщепенцы? А может, у них за пазухой камень? По этой причине заключенным было запрещено петь и все без исключения «лозунговые» песни. Так мы и остались ни с чем. В конце концов переделанная и исполненная самими заключенными на Празднике Весны народная песенка стала нашим маршем.
Перековка, перековка, каждого перекуем!
Каждому после работы отмерят пайку черпаком!
Хэй, хэй! Ай, хэй-хэй! Ай-я, хэй!
…В нашей маленькой бригаде «черпаком» заведовал дежурный. У нас было два ведра — для любой пищи. Дежурный бегал с ними на кухню и приносил полными на коромысле.
Созрели огурцы, и порозовели помидоры. Дежурный, приносивший ведра, теперь набирал в поле у дороги как можно больше свежих, только-только созревших овощей. Этими овощами занимались тоже расконвоированные, которые жили на особых правах. Мы постоянно обменивались с ними продуктами и новостями и потому наравне со старостами, бригадирами и лагерной администрацией могли раньше всех есть свежие помидоры и огурцы. В лагере очень четко соблюдался принцип градации свободы. Заключенный, принадлежавший к привилегированной касте, всегда был немного свободнее, чем остальные, из низших каст, и пользовался большими льготами и правами. Мера превосходства определялась общим для всех режимом. При самом суровом, жестком режиме «элита» все-таки пользовалась маленькими, почти ничтожными привилегиями и была свободнее других.
Два ведра из кухни плюс огурцы и помидоры. Мы наедаемся до изнеможения. Лежим на берегу у воды, подложив руки под голову, и смотрим в небо. Лагерь уже закончил работу и ушел. Как-то неожиданно становится тихо. Старая ворона сидит на дряхлой иве. Возится, копошится на ветке, и вниз, в пыль падают мелкие сучки, труха и помет. Солнце спускается за острые зазубрины гор. С залитого водой рисового поля на том берегу тянет прохладой. Лягушки еще раньше опробовали голос и теперь дружно поют, выводя какие-то замысловатые мелодии, стараясь перекричать друг друга. Звуки то растут, то пропадают, как будто лягушки только что проснулись и громко зевают. Внезапно они начинают страшно шуметь, поле словно закипает, и воздух весь наполняется кваканьем. В этом кваканье слышатся возмущение и торжество. Лягушки отвоевали свой мир — поле оставлено человеком! — и упиваются победой.
С того берега налетел ветер — на воде прыгающие, мерцающие блики. Я закрыл глаза. Тишина. Я знал: такая тишина возникает в ожидании гармонии. Нужно только победить самого себя. Человек беспомощен перед историей, вся его деятельность зажата рамками обстоятельств и почти всегда бесплодна. Но ум его свободен, и этой свободой можно пользоваться.
О чем я размышлял? Вроде ни о чем. Большой мир, что на воле, живет совсем не по тем законам, о которых говорил Маркс. Книги отложены в сторону, и говорят — это-то как раз согласуется с Марксом, — что «оружие критики ничто перед критикой оружия». Не только начальник часто выглядит ошарашенным, но и я, считающий себя умнее его, в полной растерянности. Молчание начальника Вана дает пищу смутным, часто захватывающим надеждам, но не дает опоры для размышлений. Спиноза, что ли, сказал: «Незнание ни для чего не может служить основанием».
Читать дальше