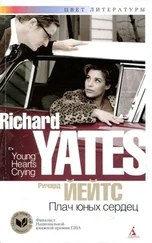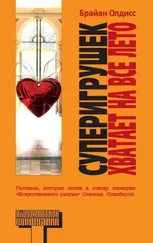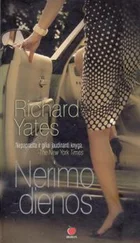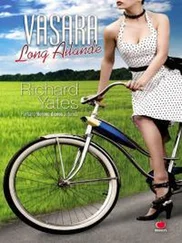— Ну, не знаю… — сказал он, со вздохом облокотившись о дверную стойку. — Не знаю как вам, ребята, а мне это нравится — ходить на стрельбище, маршировать и вообще вот это все. В этом чувствуется настоящая солдатчина — понимаете, о чем я?
Опасная наивность — вот так говорить, используя любимое словечко Риса — «солдатчина». Несколько мгновений мы смотрели на Фогарти нерешительно. Но потом Даллессандро окинул всю компанию спокойным взглядом, в котором не было ни тени насмешки, — и мы расслабились. Понятие солдатчины начинало вызывать уважение, а поскольку в нашем сознании оно было неотделимо от сержанта Риса, к нему мы тоже начинали испытывать уважение.
Вскоре эта перемена охватила всю роту. Мы больше не противостояли Рису, мы сотрудничали с ним и действительно старались, а не делали вид, будто стараемся. Нам искренне хотелось стать настоящими солдатами. Должно быть, порой наша старательность доходила до нелепости, и человек попроще мог бы подумать, будто мы в шутку притворяемся: помню, как на любой приказ Риса мы отвечали дружным: «Есть, сержант!» — полным невиданного энтузиазма. Но сам Рис принимал все за чистую монету, с незыблемой самоуверенностью — первой непременной чертой хорошего командира. Он был не только строг, но и справедлив — вторая непременная черта хорошего командира. Например, при назначении будущих командиров отделения он спокойно обходил тех, кто выслуживался перед ним как мог, разве только ботинки ему не лизал, и выбирал тех, кого мы уважали: это были Даллессандро и еще один парень, не менее достойный. В остальном же его метод командования был классически прост: он вдохновлял нас собственным примером — во всем, от чистки винтовки до складывания носков, — и мы подражали ему, стараясь ни в чем не уступать.
Безупречностью легко восхищаться, но любить ее трудно, а Рис не желал облегчить нам задачу. Это была единственная его ошибка, но очень серьезная, ибо уважение без любви — чувство непрочное — во всяком случае, когда речь идет о юных незрелых умах. Рис дозировал душевное тепло не менее строго, чем питьевую воду: наслаждаясь каждой крошечной каплей несоизмеримо сильнее, чем оно того стоило, мы всегда жаждали еще и никогда не получали достаточно, чтобы утолить жажду. Мы были счастливы, когда он вдруг перестал коверкать наши имена на перекличке, и пришли в полный восторг, заметив, что в его замечаниях больше нет стремления оскорбить, ведь мы понимали: это знаки того, что он признает наши успехи в солдатском деле, — однако почему-то мы чувствовали, что имеем право на большее.
Неменьший восторг вызвало у нас открытие, что наш пухленький лейтенант побаивается Риса: нам едва удавалось скрывать удовольствие, наблюдая, как при появлении лейтенанта сержантское лицо делается снисходительным, или слушая, с какими напряжением, едва ли не извиняясь, молодой офицер произносит: «Хорошо, сержант». В такие моменты мы ощущали особую близость с Рисом, будто принадлежали вместе с ним к какому-то особому солдатскому сообществу и были этим горды, и он даже раз-другой оказал нам особую честь, подмигнув нам у лейтенанта за спиной, — но только раз-другой, не больше. Но сколько бы мы ни копировали его походку и манеру щуриться, сколько бы ни ушивали форменные рубашки, чтобы те сидели плотно, как у Риса, сколько бы ни подражали его манере говорить, в том числе южному произношению, — несмотря на все это, славным парнем мы его никогда не считали. Это была личность совершенно иного типа. Ему не нужно было от нас ничего, кроме формального подчинения в служебное время, и как человека мы его почти не знали.
В редких случаях, когда он оставался дежурить, он сидел в одиночестве или в компании одного-двух других кадровых военных, столь же неразговорчивых, как он сам, — в компании, куда нам решительно не было доступа, — и пил пиво в гарнизонной лавке. Почти каждый вечер и каждые выходные он пропадал в ближайшем городке. Я уверен, никто из нас и не надеялся, что сержант станет проводить свободное время с нами, — по правде сказать, нам бы такое и в голову не пришло, — и тем не менее было бы лучше, если бы он хоть немного приоткрыл для нас ту завесу, за которой скрывалась его личная жизнь. Если бы он хоть раз в разговоре с нами упомянул свой дом, например, или пересказал беседу с приятелями, с которыми сиживал в гарнизонной лавке, или посоветовал бы любимый бар в городке, думаю, все мы были бы благодарны до глубины души. Но он не делал ничего подобного. Положение усугублялось тем, что у нас, в отличие от него, в жизни не было ничего, кроме служебной рутины. Городок был похож на маленький пыльный дощато-неоновый лабиринт, кишащий солдатами, и, хотя большинство из нас не обрели там ничего, кроме одиночества, мы все равно фланировали с важным видом по узким улочкам. Гулять там было негде — слишком мало места, и если удавалось отыскать хоть какие-то развлечения, сведения об этом оставались уделом избранных, которым посчастливилось первыми набрести на живительный источник удовольствия; нам же, молодым, застенчивым, не вполне уверенным в том, что именно мы ищем, делать там было решительно нечего. Можно было разве что зайти в армейский клуб и, если повезет, потанцевать с девушкой, давно разучившейся ценить наивных ухажеров; можно было поискать удовольствия, побродив между прилавков с безвкусными арбузами или заглянув в зал игровых автоматов; еще можно было бесцельно слоняться небольшими компаниями по темным улочкам на окраине, где редко попадалась хоть одна живая душа, кроме таких же солдат, столь же бесцельно слоняющихся такой же компанией.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу