Робер Эскарпи - Литератрон
Здесь есть возможность читать онлайн «Робер Эскарпи - Литератрон» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Литератрон
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Литератрон: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Литератрон»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Литератрон — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Литератрон», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Я присутствовал при разыгравшейся сцене, не слишком-то понимая что к чему. Пример господина Филиппо, сохранившийся в моей памяти, свидетельствовал о том, что не следует пренебрегать угрозами мамы. Но в последнее время я чувствовал, что атмосфера на нашей вилле Ла Юм несколько изменилась. Немецкие офицеры ходили угрюмые, нервные. Мама казалась озабоченной, и несколько раз я заставал ее на кухне в слезах. С другой стороны, подкопаться под священника было не так-то легко. Напуганный происходившим, а главное, не зная, перед кем бы продемонстрировать свои добрые чувства, я счел за благо разрыдаться и убежать к бабушке, которой и поведал всю эту историю, громко шмыгая носом. Выведенная из себя тем, что мама осмелилась проявить неуважение к лицу духовного звания, бабушка, настигнув дерзкую дщерь на окраине городка, залепила ей две пощечины на глазах у доброго десятка радостно гоготавших кумушек.
Когда я вернулся домой, мать строго-настрого запретила мне ходить в Местра. Я понял, что ослушаться ее было бы неосторожно с моей стороны, и огорчился, так как дед и бабка, не имея других внуков, выполняли мой любой каприз.
Впрочем, заточение мое длилось недолго. Через несколько недель наступило Освобождение, и мою мать обрили. Случилось это так: она попыталась было удрать на велосипеде, но, не желая бросать сына, имела неосторожность посадить меня на багажник. Силы изменили ей раньше, чем она успела добраться до ле Тейш. Она укрылась у своих друзей фермеров, которые и обрили ее наголо машинкой для стрижки овец, желая искупить свою вину за компрометировавшее их знакомство.
При виде голого черепа матери я пролил искренние слезы - полагаю, последние за всю мою дальнейшую жизнь, - ибо я очень ее любил. Аркашонские партизаны, подошедшие к этому времени, оказались добрыми малыми и, когда стемнело, дали маме возможность бежать. Она очутилась в Алжире. Позднее я узнал что ее погубили превратности Освободительной войны: она погибла, защищая бордель, который содержала в Оране.
Тогда-то наступило для меня долгое, полное очарования праздное житье у дедушки и бабушки. Но мне оставалось еще свести счеты со священником. Придерживаясь своей давней тактики, я искал какой-нибудь хитрый ход, желая одновременно скомпрометировать старого святошу и прославить себя. И кажется, я его нашел. Старик любил поесть и плохо переносил лишения. В своем доме на чердаке, которым уже давно не пользовались и куда попадали по расшатанной лестнице, он спрятал несколько ящиков сгущенного молока, приобретенных на черном рынке. Случайно открыв один ящик, я, несмотря на всю свою прожорливость, поостерегся и не стал трогать его клад. Я решил подложить у самого входа на чердак плоскую мину из тех, что в последние дни подбирали на пляже местные жители, и в воскресенье утром обнаружить ее в момент торжественной службы. Мои крики, конечно, привлекут внимание партизан, которые, в свою очередь, обнаружат ящики с молоком. Я буду вознагражден, а священник лопнет от злобы, так как волей-неволей посодействует моему триумфу. Мин я не боялся, мне не раз приходилось видеть, как немецкие солдаты обращаются с ними, и поэтому знал, что они совершенно безопасны, если только по ним не проезжать на танке. Однако для мальчишки девяти лет перетащить тяжеленную мину на самый верх лестничной площадки было нелегким делом. Тем не менее все удалось как нельзя лучше, и в следующее воскресенье, в час службы, я осторожно поднялся по лестнице и уже изготовился испустить истошный крик, как только на площади соберется побольше народу. Но когда я перегнулся через перила, озирая площадь, страшный удар ногой под зад сбросил меня прямо вниз. Когда я пришел в себя, весь в крови и ссадинах, я услышал голос священника: "К счастью, я заметил его вовремя. Он чуть было не наступил на мину. Ну ясно, я, не задумываясь, сбросил его пинком с лестницы. Лучше сломать руку или ногу, чем, подорвавшись на мине, взлететь в воздух".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Литератрон»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Литератрон» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Литератрон» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.



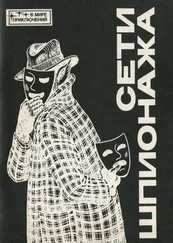

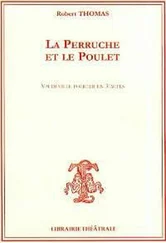



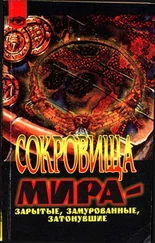

![Робер Мерль - БСФ. Том 17. Робер Мерль [«Разумное животное»]](/books/424176/rober-merl-bsf-tom-17-rober-merl-razumnoe-zhi-thumb.webp)