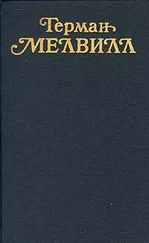Пьер задумался о колдовском мрачном письме Изабелл, он воскрешал в памяти свое праведное воодушевление в тот час, когда героические слова жгли его сердце: «Беречь тебя, и быть рядом с тобой, и сражаться за тебя будет твой неожиданно обретенный брат!» Эти воспоминания с гордым торжеством расцвели в его душе, и при виде столь блестящих знамен добродетели дьявол с копытами в смятении бросился наутек. Но вслед за тем Пьеру вспомнился ужасный, смертоносный, прощальный взгляд его матери; снова услышал он бессердечные роковые слова: «Под моим кровом и за моим столом тот, кто когда-то звался Пьером Глендиннингом, никогда больше не появится»; и падающая в обморок в своей белоснежной постели, бездыханная Люси вновь лежала перед ним, и слышалось повторяющееся эхо ее мучительного крика: «Любимый мой! Любимый мой!» Затем его мысли вновь быстро вернулись к Изабелл и к тому несказанному, внушающему благоговейный страх, все еще малоосознанному, нарождающемуся, новому и сложному своему чувству к сей таинственной девушке. «Вот! Я оставляю за собой трупы, куда бы ни направился! – стонал Пьер про себя. – Разве могут мои поступки быть правильными? Вот! Из-за моих поступков мне, кажется, угрожает опасность противоестественного и проклятого греха, и это вполне может оказаться такой грех, про который говорит Евангелие, что ему нет искупления. Я оставил позади себя трупы, а впереди меня ждет тягчайший грех, так как же мои поступки могут быть правильными?»
В сих мыслях ответом ему было молчание, и первые яркие лучи утреннего солнца нашли его все в тех же раздумьях и обогрели. Ночь смятения и бессонницы миновала, и удивительная дремота тихого непоколебимого страдания, и сладкое спокойствие воздуха, и монотонное, точно колыбельное, покачивание кареты, что ехала по хорошей дороге, кою освежил ночной ливень, прибив пыль, – все это оказало желаемое действие на Изабелл и Дэлли: спрятав свои личики, они быстро заснули рядом с Пьером. Скоро заснули они – и твоя интуиция, о прекрасная Изабелл, и ты, о несчастная Дэлли; твой стремительный рок я принимаю, как свой собственный!
И вдруг, когда грустный взгляд Пьера скользил все ниже и ниже, рассматривая эти зачарованные в своей неподвижности фигуры, его взор упал на собственную руку, сжатую в кулак. Какие-то листы бумаги видны были в сомкнутых пальцах. Он не знал, как они туда попали или откуда взялись, хотя сам же держал их в горсти. Пьер поднял руку и медленно разжал себе пальцы один за другим и вытащил из них бумагу, развернул ее и аккуратно расправил, чтобы понять, что же это может быть.
То была тоненькая, изорванная книжечка в мягкой обложке, ссохшаяся, как засохшая рыба, напечатанная расплывшимися чернилами на тонкой скверной бумаге. Казалось, то был обрывок какого-то старого истлевшего трактата – трактата, содержащего в себе главу или больше из какого-то многотомного исследования. Окончание его было потеряно. Должно быть, каким-то нечаянным образом книжку эту здесь забыл предыдущий пассажир, который, возможно, когда вытаскивал из кармана носовой платок, достал заодно и сию бесполезную книжонку.
Почти всем нам свойственна та непостижимая страсть, что овладевает нами, как только нам выпадает свободная минутка, что вклинивается меж двух наших обычных дел да как-то невзначай прерывает их; и тогда стоит нам увидеть себя в полном одиночестве да каком-нибудь тихом или дальнем углу, то мы начинаем относиться с непостижимою нежностью к глупейшему листку порыжелой бумаги, на коем напечатаны слова – к любому обрывку, и не книги даже, а быть может, рекламного буклета, – и читаем его, и изучаем его, и перечитываем его, и сосредоточенно над ним размышляем, и даже, в некоторой степени, мучаемся над сей ничтожной, жалкой книжонкой, какую в другое время да в других обстоятельствах мы едва ль решились бы взять длинными щипцами святого Дунстана [118]. Вот что, в какой-то степени, приключилось и с Пьером. Но, несмотря на то что он, как и многие другие, был подвержен странной страсти – порою в свободное время читать всякий вздор, – о чем мы поведали выше, однако, когда он бросил первый беглый взгляд на название ссохшейся, как сухая рыба, да похожей на старый буклет книжонки, то едва не выбросил ее из окошка кареты. Поскольку, каково бы ни было душевное состояние человека, кто из благомыслящих и заурядных смертных по доброй воле согласится потерять время, взяв на часок-другой в свои мудрые длани некое отпечатанное сочинение (да в коем еще в придачу расплылись чернила, и напечатано оно на очень скверной бумаге), опус, имеющий столь метафизическое и неудобоваримое название, как это: «Хронометры [119]и часы»?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу