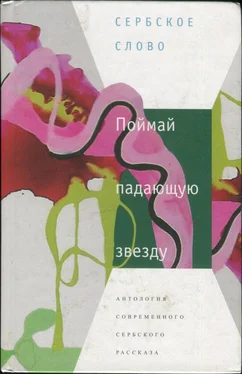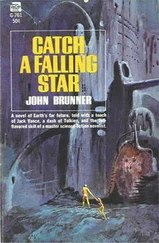Отцовские губы извиваются в болезненной гримасе, как будто именно сейчас он хочет сказать нам нечто очень важное, поведать тайну, которую он сохранил, пройдя множество лагерей. Но гортань его испускает лишь тихий стон.
Из окна доносится запах молодой травы, соскучившейся по старательному косарю. Только теперь становится очевидным, насколько сурова природа, как каждый стремится плюнуть в больного, унизить его. Бабочка в нашем доме внезапно застывает на стене, и отец наверняка злится, что плохо ее оштукатурил. Она кажется ему кривой и желтой. И вот-вот обрушится на его грудь. Солдатские ботинки висят на гвозде, прибитом над кроватью, их удерживают крепко завязанные шнурки. Рядом повисли патронташ и рюкзак, повидавший еще первую войну. Кто бы мог подумать, что на стене соприкасаются два всемирных пожара! На клапане рюкзака видна дырка, проделанная пулей, прошедшей сквозь мышцы отцовской руки. Рюкзак этот — настоящая хрестоматия, полная воспоминаний. Чего только в нем ни доставляли контрабандой не только в Герцеговину, но и в Далмацию — от желтой махорки из Требиня до сушеных семян самых разных целебных трав. Только об этом можно было бы сочинить настоящий роман, но жизнь и болезнь отца повернули русло в другом направлении, наступило смешение времен: что было, что стало, что будет. Однажды отец принес из Боки полный рюкзак женских пряжек, иголок и шил для пошива обуви. (Не зря стали говорить: «Колет, как шило Огненово!») Как-то ему всегда удавалось счастливо избегать жандармских глаз и кулаков. Ему никогда не нравилось, когда жандармы спрашивали: «А как нам добраться до Шипанича?» Он прикидывался дурачком, который никогда не слышал про эту деревню. «Что это за дурацкие Шипаничи?» — удивлялся он и заметал следы, поскольку твердо знал, что жандармы по добру не ходят, а только по злому навету. Позолоченные карманные часы с цепочкой лежали закрытыми на комоде как некая святыня, работающая сама на себя и никому ничего не показывающая, тикая без завода и без всякого присмотра со стороны. Их носил только дед при жизни, торжественно извлекая их из суконного галифе, чтобы посмотреть, давно ли минул полдень, и лишний раз полюбоваться чудесным движением стрелок. Впрочем, он дивился всему и всем восторгался. Вечером он с удивлением всматривался в знаки циферблата, будто это были внушительные цифры общинного банка, вслушивался и проникался их тиканьем, напоминавшим биение пульса, до тех пор, пока сон окончательно не овладевал им. («Тик-так, и жизнь проходит!») Как будто ждал, что из этого механизма вот-вот появится дух его отца, которому следует низко поклониться. Он никак не мог понять, почему так быстро пролетела молодость, почему неумолимо тают и сокращаются дни его жизни.
Но теперь никто больше не помнит проповедей носатого и всегда чуточку пьяного попа Зимонича, который всем, от мала до велика, твердил: «Не делай другим пакостей, потому как сам себе зло этим творишь!» Но кто ж ему поверит? Да и сам поп иной раз забывал свои слова, и однажды так шибанул Алексину сучку камнем, что та скулила весь божий день и корчилась среди своих щенят. «Он не за всех одинаково Богу молился, за хворого и за здравого, за крепкого и за немощного. Если б он по справедливости поступал, то одни бы не подыхали от голода, а другие с ума бы не сходили от обжорства!» — говорила всем и каждому Ешна без всякого стеснения.
Танасий, что сидит под грушей (всю молодость в ее тенечке провел), бросает камешки в трубу Миятова дома, но тогда только, когда тот его не видит. А вот и Димитрий, весь потный и понурый, сожалеющий, что поздно пришел и не успел во все эти дела ввязаться. Дождь не прольется, если он о том первым не объявит. Знаю, сразу начнет причитать и плакаться о своем родном брате, с которым он годами не разговаривает и которого сторонится, будто тот ему кровный враг, а не самый близкий на свете человек. Будто не одной титькой их мать кормила. Аж страшно делается и верить в то неохота, даже если тебе сто раз подряд об этом расскажут.
Жара становится все сильнее в эти дни ожидания и отцовских мук. Иссохшая трава жалостно торчит из потрескавшейся от жажды земли. Покрывается Ешнина голова седым волосом, будто на ней парик вырос. Горячий ветер и в тени обжигает крепче, чем на припеке. Словно лето нынешнее вышло из-под контроля, и мир окружающий вновь погружается в хаос.
Пересохшее треснутое деревянное корыто больше ни на что не годится. Пчелы лениво слетаются к бывшему болотцу, а мы вспоминаем, каким оно было, и хоть малый миг этими воспоминаниями живем. Ящерицы и жабы носятся, толкутся в этом божьем огне и царапаются. Только бы змеи в водосборник не залезли, а то нам и напиться неоткуда будет. Когда они спариваться начинают, то сплетаются в клубок и так замирают на несколько часов.
Читать дальше