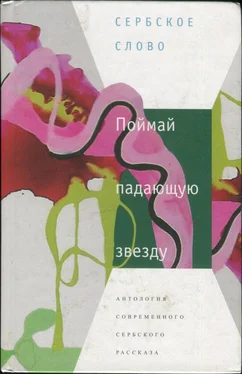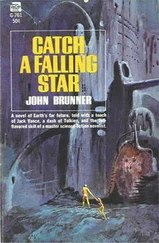Тем же вечером Карагеоргий пожелал увидеть певца, песня которого встретила его на крепостных шанцах. Пока его вели к Вождю, Вишничу в голову пришли слова. Если никому другому, то только Черному Георгию он мог высказать то, что накопилось в его душе. Но когда Вождь обнял его, Вишнич почувствовал, что этот большой и теплый человечище налился усталостью и мелким, острым мраком. Они обнимались, может, даже и перемолвились, за спиной у Вишнича полыхал костер, близилась полночь и становилось холоднее, восходил осенний месяц, а щека Вождя пахла порохом. Потом Карагеоргий замолчал, вслед за ним умолк и Вишнич. Вот так, в молчании, они преломили хлеб. Потом Вишнич внезапно протянул руку к Карагеоргию, чтобы коснуться его в знак приветствия, однако промахнулся, и рука не коснулась его. Вишнич в одиночестве удалился в свою ночь, Карагеоргий остался в своей.
В последующие годы в нем продолжал накапливаться тот излишек знания, который он не хотел ни включать в песни, ни предавать забвению. И никому не хотел рассказывать. Не хотел ни Стояну Чупичу, Змею из Ночая, ни Луке Лазаревичу, хотя они и любили его. Он чувствовал, что они не смогут услышать его или, как тогда с Карагеоргием, момент был неподходящим, и что тогда ему делать? Однажды он был в Ночае, у Змея в гостях, и долго слушал про то, как все тяжелее приходится сражаться и как все больше растет недоверие среди людей, и сразу понял: как хорошо, что он не проговорился. Время было неподходящее, да и его понимание этого еще не окрепло. Он припомнил тот сгустившийся в Карагеоргии мрак, и опять спохватился: с чего это вдруг он осмелился думать, будто все испытания остались позади, когда самое страшное еще только предстоит? Он решил помочь им: шел от одного поля боя к другому и пел. Его ожидало первое искушение: его слушали, он был нужен им, но было уже понятно, что теперь люди все меньше и меньше нуждаются в песне.
В 1813-м, в год страшного поражения, он был на Равне, рядом со Змеем из Ночая. Он пел семнадцать дней и семнадцать ночей. В последние дни и ночи все тише и слабее. В начале сражения ему показалось, что он очутился в одном из часто повторявшихся сновидений: опять он укрылся в каком-то шанце, опять вокруг него стреляли и ругались, стонали и гибли, турки наваливались и их крики раздавались все ближе, пушки гремели. В этой свалке раздавался голос Вишнича, но он понимал, что сербы все хуже слушают, а турки все меньше вслушиваются, потому что сербов становится все меньше, а турок все больше. Подмоги от Карагеоргия все не было, да и не могло быть. И теперь песня не могла уже пересилить все усиливающийся гул смерти и отсутствие надежды, растворяющейся в дожде и грязи. Напрасно в минуты затишья он вслушивался в небеса: безмолвная пропасть не открывалась, и Бог удалялся от него. Свет внутри Вишнича угасал. В семнадцатый день он уже не пел: с мукой в душе позволил проливному дождю, занявшему все пространство между небом и землей, залить ему и лицо, и руки, и гусли. Потом кто-то схватил его и поволок по лужам и по грязи, чтобы спасти, а он хотел остаться в Равне, рядом с мертвыми.
Но его спасли. В Среме, где он поселился, Вишнич постепенно стал понимать, что в нем теперь созрело полное, совершенное знание, скорее всего, о страдании. Когда-то, во время болезни, сгорело его зрение; теперь, после овладения знанием, в нем, похоже, сгорела песня.
На своей улице, прислонившись к надгробию шейха Мустафы, Вишнич видит, как здесь, чуть ниже, перед музеями Вука и Досифея [3] Вук Караджич (1787–1864), сербский лингвист, создатель литературного сербского языка; Досифей Обрадович (1742–1811), сербский просветитель и реформатор.
, простираются поляны тишины, которые всегда остаются после ухода ночи. На это место, куда днем падает больше всего потоков света, которые даже штормовой ветер не в состоянии развеять, ночью опускается густой мрак, стекающий на улицу Вишнича. Здесь иной раз выпадают черные хлопья минувшего времени, которые в зимнюю полночь ветер смешивает со снежинками и пылью Млечного Пути. После того, как на старом Дорчоле поднялись новостройки, летом сюда, к началу улицы Вишнича, более не доносятся запахи Дуная, однако временами, как и прежде, здесь собираются тени мелкооптовых торговцев с бывшего Йованова рынка. Появляются стекольщики и старьевщики, портняжки и купчишки в своих покосившихся дощатых лавках. Они переговариваются, но слов не слыхать, потому что утренний ветер уносит их к мутной Саве или же западные потоки увлекают их к обширным равнинам. Однако теням это совсем не мешает, а улица Вишнича, некогда бурлившая рыночной суетой, днем остается улицей приглушенных шумов. Иногда чуть громче пропыхтит старый автомобиль, или со стороны Студенческого парка скатится шорох опавших листьев; иной раз залетают сюда и светлые детские голоса. Долгое время, может, целые десятилетия Вишнич готовится оторваться от надгробия, рядом с которым ему так хорошо, и спуститься по короткому переулку к Музею: он понимает, что надо бы это сделать ради Вука, но другого стимула у него нет.
Читать дальше