Эту страдающую жертву, этого терпеливого мученика, всё существо которого является постоянною пыткою, страшною болью, этого заживо сжигаемого, ты называешь с упрёком своим палачом.
Отныне, моя сестра, не делай больше недовольного лица, не показывай твоего добродетельного осуждения.
Ах, с меня довольно! Если я причинил невольное зло тебе, лучшей из всех женщин, я спрашиваю себя, почему я скрывал бы от тебя чувства толпы. Далеко от того, чтобы унижать себя, я возвышаюсь…
Неужели ты будешь осуждать меня, проклинать, как другие? Как тебе угодно. Я даже предоставляю тебе право простить меня. Я не больной, не преступник. Я ощущаю своё сердце более широким и возвышенным, чем самые хвалёные апостолы. Не выказывай себя фарисейкой по отношению ко мне, о, моя безупречная Бландина!
В особенности, не правда ли, не надо больше надоедливых бесчестных слов в разговорах о нашей любви, о наших возможных единственных чувствах?
Эти слова, мой ангел, заставят тебя потерять сразу всё то, что ты приобрела за твою жизнь, полную доброты и сочувствия. Довольно этой преданности, которая жжёт, как раскалённое железо… Довольно прижиганий!
– Анри, – рыдала бедная женщина, – не будем вспоминать прошлого; разорви мне сердце, но не говори так со мною… Довольно. Я далека от того, чтобы порицать тебя, я делаю ещё больше, чем извиняю тебя, я одобряю. Этого ли ты хочешь от меня? Я хочу быть проклятой вместе с тобою!
Он почти не слушал её, так как сердце его было переполнено и словно выливалось наружу.
Она, словно переродившись, нежно усадила его в кресло; она ласково обняла его за шею, и прижавшись своей щекой к его щеке плакала вместе с ним. Она соглашалась, что отчаяние Кельмарка имело перевес над её страданием и она хотела показать ему только материнскую ласку.
– Скажи мне, Бландина, – продолжал он, – кому мне случалось наносить зло? тебе? Но это было бессознательно; я вовсе не такой человек, о котором ты мечтала, или, по крайней мере, такой, какого ты могла бы себе желать. Я не могу ничего поделать. Я первый страдаю от твоего отчаяния. Ты плачешь от моих слов; ты права, Бландина, если ты льёшь эти слёзы от зрелища моего отчаяния от моих долгих Страстей… Твоё сочувствие делает мне честь и облегчает мою душу. Но если ты плачешь от стыда за меня, дорогая, если ты осуждаешь меня, отталкиваешь, если ты разделяешь предрассудок этого западного и протестантского света… тогда, покинь меня, утри слёзы, меня не трогает твоё стыдливое участие.
Да, с нынешнего дня, Бландина, я не буду пользоваться людским уважением и трусливой чистотой.
Настанет время, когда я заявлю о моей правоте в лицо всему миру.
Пора. Моё адское состояние души длилось достаточно. Оно началось с минуты моей возмужалости. В коллеже мои товарищи нарушили всю живость и самую нежную меланхолию моих чувств. Во время купанья зябкая нагота моих товарищей вызывала во мне сильный экстаз. Срисовывая античные произведения, я наслаждался благородными мужскими академиями; по призванию язычник, я не понимал добродетели, без того чтобы не облечь её в гармонические формы какого-нибудь атлета, юного героя или юного бога, и я страдал, сливая мечты и стремления моей души в гимн мужскому телу. В то же время я находил петухов и фазанов более красивыми, чем их самки, тигров и львов чудеснее тигриц и львиц! Но я молчал и скрывал мои симпатии. Я пытался даже обманывать свои взгляды и чувства; я призывал душу и тело к презрению и, отрицанию их склонностей. Таким образом, в пансионе, я питал безнадёжную любовь к Вилльяму Перси, юному английскому лорду, тому самому, который меня чуть не утопил, и я никогда не смел выразить ему хотя бы братским расположением ту горячность, которую чувствовал к нему.
По выходе из Баденбергского замка, когда я тебя встретил, Бландина, я подумал, ощущая любовь к тебе, что становлюсь таким, как все. Но к несчастью для нас обоих, эта встреча была только случайной в моей половой жизни. Несмотря на честные и героические успехи, титаническую сосредоточенность страсти на лучшей и самой привлекательной из женщин, мои телесные влечения вскоре отвернулись от тебя и тебя Бландина, я любил отныне одной душой! В то время, остатки христианских сомнений, или скорее библейских, внушали мне ужас к самому себе. Я был противен самому себе, я чувствовал себя, действительно, проклятым, одержимым, предназначенным для огня Содома!
Затем несправедливость, беззаконие моей судьбы примирили меня невольно с самим собою. Я начал считаться только с собственною совестью и моим внутренним сознанием. Сильный моей абсолютной правдивостью, я отстранялся от влюбчивых стремлений большинства людей. Чтение окончательно подтвердило мою правоту и законность моих наклонностей. Художники, мудрецы, герои, короли, папы, даже боги оправдывали и как бы возбуждали собственным примером культ мужской красоты. Во время моих колебаний и угрызений совести, чтобы погрузиться снова в мою веру и чувственную религию, я перечитывал пламенные сонеты Шекспира к Вилльяму Херберту, графу де Пемброку, сонеты не менее страстные Микель-Анжело к рыцарю Томмазо ди Кавальери; я набирался сил, вспоминая отрывки из сочинений Монтеня, Теннисона, Вагнера, Уитмана; я представлял себе молодых юношей на банкете Платона, возлюбленных Фивского божественного отряда, Афила и Патрокла, Дамона и Пифия, Адриана и Антиноя, Харитона и Меланина, Диоклеса, Клеомаха, я разделял все эти благородные страсти античной жизни и эпохи Возрождения, о которых нам грубо говорят в коллеже, умалчивая о чудесном эротизме, как вдохновителе абсолютного искусства эпических движений и высшей гражданской добродетели.
Читать дальше




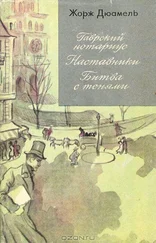


![Буало-Нарсежак - Замок спящей красавицы [Волчицы • Дурной глаз • Замок спящей красавицы • Фокусницы]](/books/424831/bualo-thumb.webp)