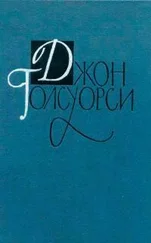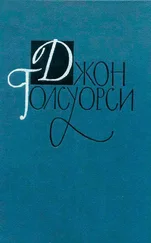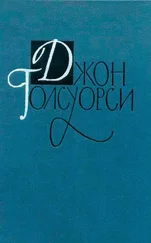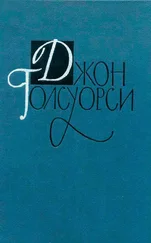Динни не ответила. Она вся дрожала. Ни Адриан, ни сэр Лоренс не сумели ее пронять, а сейчас до нее впервые дошла точка зрения противника. В душе ее была задета какая-то тайная струна, ее заразило волнение человека, которого она всегда почитала, любила и не считала способным на такую страстную филиппику. Говорить она не могла.
- Не знаю, религиозный я человек или нет, - продолжал генерал, - вера моих отцов вполне меня устраивает, - он махнул рукой, словно хотел сказать: "Дело тут не во мне", - но пойми, я не мог бы пойти на это по принуждению, не мог бы сам и не понимаю, как пошел на это другой.
Динни негромко сказала:
- Я не стану тебе объяснять; давай так и уговоримся: не понимаешь, и все. Большинство людей совершает поступки, которые трудно понять, только о них не всегда знают. И разница только в том, что о поступке Уилфрида знают.
- Как, и об угрозе знают... о том, почему?
Динни кивнула.
- Откуда?
- Какой-то мистер Юл приехал из Египта и рассказал эту историю; дядя Лоренс считает, что замять ее невозможно. Я хочу, чтобы ты знал самое худшее. - Она собрала свои мокрые чулки и туфли. - Пожалуйста, расскажи все это маме и Хьюберту, хорошо, папа? - и встала.
Генерал глубоко затянулся; в трубке послышалось бульканье.
- Пора вычистить твою трубку, папочка. Завтра я этим займусь.
- Но ведь он станет парией! - вырвалось у генерала. - Настоящим парией. Ах, Динни, Динни!
Никакие другие слова не могли бы ее так растрогать и обезоружить. Он больше не спорил, он их жалел.
Закусив губу, она сказала:
- Папа, если я не уйду, мне попадет в глаза дым. И ноги у меня застыли. Спокойной ночи, милый!
Она повернулась, быстро пошла к двери и, оглянувшись, увидела, что он стоит, понуро опустив голову.
Динни поднялась в свою комнату, села на постель и стала тереть одна о другую замерзшие ноги. Вот и все! Отныне ее удел - жить во враждебной атмосфере, которая будет окружать ее, как стена; надо пробиться сквозь эту стену, чтобы соединиться с любимым. И удивительней всего то, думала она, старательно растирая окоченевшие ноги, что слова отца вызвали у нее тайный отклик, и при этом ничуть не затронули ее чувства к Уилфриду. Неужели любовь не зависит от рассудка? Неужели образ слепого божества и в самом деле образ любви? Неужели правда, что недостатки любимого делают его для тебя только дороже? Наверно, поэтому так не любят высоконравственных героев из книг; смеются над героической позой и злятся, когда добродетель торжествует.
"В чем же дело? - думала Динни. - Неужели мои моральные устои ниже, чем устои моих родных? Или я просто хочу, чтобы он был со мной, и мне все равно, какой он и что делает, лишь бы он был рядом?" У нее вдруг возникло странное ощущение, что она видит Уилфрида насквозь, со всеми его пороками, несовершенствами и с чем-то таким, что искупает это и позволяет его любить, а что это такое - для нее необъяснимая загадка. Она подумала с невеселой улыбкой: "Дурное я в нем чувствую сразу, а вот добро, истину, красоту мне еще надо найти...". И, с трудом превозмогая усталость, она разделась и легла спать.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Дом Джека Маскема в Ройстоне звался "Вереск". Это было низкое, старомодное жилье, непритязательное снаружи и комфортабельное внутри. Весь дом был увешан гравюрами с изображением скаковых лошадей и скачек. Только в одной комнате, которой редко пользовались, видны были следы прежней жизни. "Тут, - как сообщал один американский репортер, приехавший брать интервью у "последнего денди" относительно племенного коневодства, - сохранилась память о молодых годах, проведенных этим аристократом на нашем славном Юго-Западе: ковры и чеканное серебро работы индейцев племени навахо; волосяные дорожки из Эль-Пасо; огромные ковбойские шляпы и мексиканская сбруя, сверкающая серебром. Я спросил хозяина об этом периоде его жизни.
- Ах, вот вы о чем, - сказал он, растягивая слова, - да, я в молодости пять лет пробыл ковбоем. Видите ли, меня всю жизнь занимало только одно лошади, и отец решил, что для меня здоровее быть ковбоем, чем жокеем на скачках с препятствиями.
- Вы можете сказать, когда это было? - спросил я высокого, худого патриция с внимательным взглядом и ленивыми движениями.
- Я вернулся в тысяча девятьсот первом году и с тех пор, если не считать войны, развожу породистых лошадей.
- А что вы делали на войне? - спросил я.
- О-о... - протянул он, и мне показалось, что я становлюсь навязчивым. - То же, что и все. Ополчение, кавалерия, окопы и тому подобное.
Читать дальше