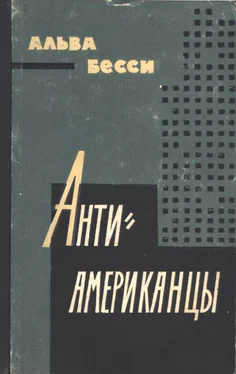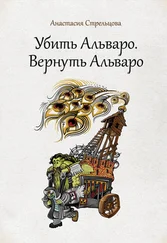Дождь еще продолжался, когда Бен вышел из метро на 15-й улице и, согнувшись под порывами ветра, пошел в восточном направлении.
«Война кончена, Блау, — снова потекли у него мысли. — Перестань наконец думать, что ты какая-то особенная личность. Перестройся. Ты уже участвовал в двух войнах, и если кому-то, кто шумит о доктрине Трумэна, сокрушается о положении в Греции и заполняет газеты клеветой о Коминформе, захочется организовать новую войну, то это им не удастся — во всяком случае, пока не удастся.
Из Испании ты выбрался с целехонькой шкурой, в Германии тебя основательно поцарапали, а в новой войне превратят в атомную пыль.
Позволь, ну что ты без конца бьешь себя кулаками в грудь, словно паршивый буржуазный интеллигентишка? (Возможно, потому, что чувствуешь себя лучше после этого занятия?) Разве тебе обязательно нужно до конца жизни изображать из себя раздвоенную личность? Да разве ты раздвоенная личность? Возможно, ты действительно сожалеешь, что ушел из „Глоба“ и не поднялся до солидного поста „известного иностранного корреспондента“ со всеми вытекающими отсюда последствиями?»
Блау вошел в прихожую своего пансиона, предварительно заглянув в почтовый ящик, но там для него ничего не оказалось. В прихожей он увидел миссис Горн-штейн, быстро подошел к ней и галантно поцеловал руку.
— Миссис Горнштейн, — провозгласил Бен, — я обожаю вас!
Женщина вырвала руку, словно прикоснулась к чему-то горячему, оттолкнула его и захихикала.
— Вы уже две недели не платите за комнату, — сказала она. Бен в притворном отчаянии покачал головой.
— Деньги, — заметил он, — это опиум для рабочего класса.
— Что?
Он опустил руку в карман и увидел, что ее лицо расплылось в широкой улыбке, но тут же сморщилось, как мехи аккордеона, когда она увидела, что он положил в ее протянутую руку лишь пятидолларовую бумажку.
— Но за две недели мне следует с вас двадцать долларов! — воскликнула она.
— Знаю, — ответил Бен. — О, как хорошо я это знаю!
Он повернулся и стал медленно подниматься по лестнице.
«Может, мне следовало зайти к старине Фрэнсису Ксавьеру Лэнгу? — подумал он. — А может, и не следовало. Я же решал этот вопрос и в 1939, и в прошлом году. Все это позади — kaput, fini, terminado! — давным-давно покончено.
Но тебе нужно перестать думать о себе как о каком-то связующем звене между буржуазией и рабочим классом и заниматься своим делом».
«Тебе придется сделать не только это, — мысленно продолжал он, открывая комнату и зажигая свет. — Тебе тридцать семь лет, ты ветеран двух войн и опытный журналист. Если „Дейли уоркер“, или „Мейнстрим“, или „Фрейхейт“ не могут взять тебя, ты должен запросить все профсоюзные газеты страны: не заинтересует ли их человек твоей квалификации. Нужно опросить все организации, которым может понадобиться человек для связи с прессой: возможно, какая-нибудь из них возьмет тебя.
А если ты не сможешь найти журналистскую работу, пойдешь на завод и станешь рабочим.
Такое существование, как сейчас, когда приходится перебиваться с хлеба на воду, — это не жизнь. Для человека с твоей биографией — да, даже с такой бунтарской биографией, — с твоей подготовкой и опытом существует немало возможностей устроиться на работу. Если теперешний строй отверг тебя, ты должен руками и зубами драться, чтобы снова занять свое место.
(И ты не обратишься к Фрэнсису Лэнгу. Тем более что теперь, после вызова в комиссию и при вероятности повторного вызова, он весьма далек от желания встретиться с тобой)».
Бен направился было к радиоле и начал искать альбом с пластинками, но вовремя вспомнил, что уже поздно и что миссис Горнштейн и ее жильцы бывают очень недовольны, когда он включает радиолу ночью. (Со временем человек привыкает уживаться с себе подобными).
Бен сел на старый вращающийся стул, который он купил как-то в магазине подержанной мебели на Шестой авеню, и уставился в стену. Плащ и шляпу, приобретенную еще до войны, он так и не снял. Всякий раз, когда Бен смотрел на стену, ему не хватало плаката, привезенного из Испании. Куда он делся?
В 1941 году, когда его призвали на военную службу, он оставил плакат Эллен и так и не набрался смелости попросить его обратно. 1938 год, думал он, Ano de la Victoria! [23] Год победы (исп.).
Через три недели после того, как Лэнг, Иллимен и Долорес услышали от Бена Блау о его решении вступить в интернациональную бригаду, Лэнгу удалось убедить Долорес снова раздобыть для него машину, и он отправился через Каталонию на запад.
Читать дальше