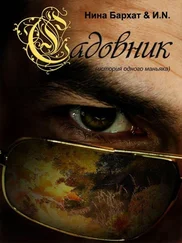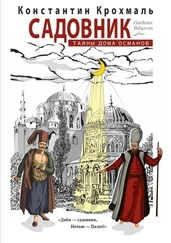— А меня так нет? — в меру кипятился Ким, нарочитым
западанием интонационных клавиш сигналя о том, что он заранее сдается.
Оба, в сущности, сознавали свою травоядность перед хищным оскалом военной прокуратуры. Но декорации разыгранного на кухне спектакля выгодно очерчивали дерзновенность Гришиных аффектов — а подобной возможности он не мог упустить!
Усиленно поскребя макушки, они почему-то под занавес дружно решили, что сгинувшему в жерле трибунала Павлику призван помочь… никто иной, как аз грешный.
Подразумевалось мое знакомство с журфаковцем Радиком — филейным адвокатским барчуком, у которого я как-то брал почитать Монтеня. Богоизбранность свою отец его сумел деликатно замять — и оттого был на вась-вась со всеми пенитенциарными дятлами. Однажды он порадел по уголовке брату Игоря Шкляревского — перелагателя «Слова о Полку», шуршавшего на побегушках у «черной сотни» и одновременно пощипывавшего из евтушенковской кормушки. На гребне этой сделки аморфные, благоразумно выхолощенные вирши Радика попали в престижную «Юность» (от чего у меня не могли не течь слюнки зависти) — и я, по наивности уповавший на цеховую солидарность, через все ту же Юлю-актрисулю решил установить с ним контакт. И смаху опростоволосился.
Загвоздка в том, что от щедрот своих я привел к нему двух премило щебетавших архитекторш — тогдашнюю мою пассию Иру Вайнштейн и ее товарку Анюту Певзнер. Изучив поэму о детском крестовом походе, хозяин признал, что она под стать тем образцам, на которые была ориентирована. «Хоть и перенасыщена игрой!» — не преминул он капнуть дегтя для аромата. Прелестниц Радик охмурял песенками на верленовские «Romances sans paroles», затем выудил из конверта обшарпанный диск «Pink Floyd».
Ира давно просила меня свести с кем-нибудь Анюту — розовоперстую, порой на пуантах, но чаще замкнутую в себе для острастки. Наконец, представился случай… Я в ту пору охотно брался за подобное сводничество: бескорыстию моему при этом как правило сопутствовала близорукость. Вот и на сей раз грянуло непредвиденное. Уязвленный моим ремесленным превосходством увалень задумал взять реванш. Через три дня, устроив засаду на голубятне, я застукал его провожающим Иру до подъезда. Разглядев нахохленного беркута, птенчики замитусились и понесли путаную лабуду.
Назавтра я потребовал сатисфакции. Пригласив меня к себе, он зачем-то приплел июльский стройотряд, где один андрогинный селянин слезно склонял его к однополому соитию.
— Стрелять таких! — выпалил я максималистски, мало подкованный в этих нюансах.
— Стрелять, говоришь? — грустно повторил он. — Лично у меня ни на кого бы рука не поднялась…
Свернувшись калачиком, он подрагивал осетровым холодцом на кожаном диване. «Радик патологичен! — при одном упоминании его имени плевалась Таня Широкова, роскошная Юлина подруга в матроске, корпевшая над кандидатской по психологии. — Ни одна нормальная женщина с ним ни за что не ляжет!» Доверяя мнению авторитета, я не стал чрезмерно на него давить, просто объяснил, что у нас с Ирой это всерьез и надолго, и, одолжив первый том «Опытов», оставил его одного нервно вибрировать…
Теперь я вынужден был прибегнуть к услугам Лапушина. Но не младшего, а папаши — столпа нимфского правосудия. И не ради себя — а во спасение бесстрашного Павлика, игравшего с огнем по своей наивной прямоте.
Жили они рядом с «Колоссом Родосским», по-роденовски высиживавшим своих лапотных героев. В тылу у бронзового Якуба Коласа бегло струилась подцензурная строка уже упомянутой светогазеты: один площадной эпик как бы вышныривал из-за спины другого.
Встретились мы у подножия монумента. Крепдешиновое кепи придавало Радику солидности, но маслянистые вакуоли явно плутовали: сродни амбивалентному Трестману. Выслушав историю, он пообещал слово в слово пересказать папаше. Условились, что я ему звякну. «Какое там! — через несколько дней приглушенно подвел он черту на том конце провода. — Дела этого рода — полная безнадега!» Больше мы не виделись.
Литинститутец Володя Сотников, знавший Лапушина еще по университетской скамье, рассказывал, что тот после подался в чеховеды: беликовская агорафобия потянулась к своему изобразителю… Что сталось с Павликом — остается лишь догадываться. С ним мы перекинулись словечком только раз. Помню, с каким пиететом он отзывался о Киме, о том же Трестмане… «Вы, Григорий, вероятно, иудей?» — справился он с достоинством и заведомым уважением. Рыцарски бесстрашный взор его — одно из чистейших впечатлений той поры.
Читать дальше