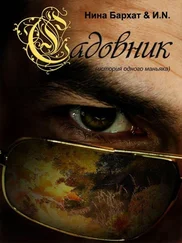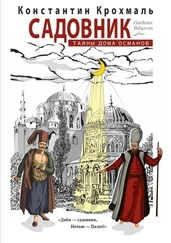Что до Радика — тот от визита к Киму отнекался с самого начала: «С этакой глыбой уместней было бы на этапе побалакать!» — мечтательно зевнул он, как всегда студенисто трясясь на диване.
Стояла зима… С ремаркой этой, конечно же, ассоциируется экспозиция пастернаковской «Рождественской звезды»:
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Первое наше рандеву состоялось в приюте для неврастеников, где я и сам недавно отфыркивался под душем Шарко — охаживаемый старушенцией, как замызганный шевролет на пришоссейной мойке. Теперь — вот знаковое превращение! — тсцелившийся пациент заливал для ребятни зимний каток, подбадривая поэтессу в ее поединке с депрессией.
Многие из Кимовых послушников прошли это чистилище: кто как не он мог служить им образцовым консультантом! Так, Опаня умудрился избежать армии, благодаря своим актерским задаткам и вполне приемлемому для старой гестаповки составу крови. Рита же, в отличие от нас, и вовсе не юлила: с мужней повесткой над ней и впрямь сгущались бытовые тучи.
Я верил, что способствую преодолению душевного кризиса. Отлучки из стационара, персоналом, как водится, замечаемые сквозь пальцы, исподволь осветляли ее почерневшие подглазья. Мы заказывали молочный коктейль в кафетерии универмага «Беларусь». Иногда на этих прилавках нам попадались недурственные грампластинки.
Двумя месяцами ранее, ушло ныряя в прореху, я пировал тут с жовиальным Фаннином, поклонником этнолога Иоганна Гердера, и с его усачом историком из соседней палаты. (Школьных учителей у нас валялось навалом, кое-кто из них неясытью ухал во сне. Этот — дока по джайнизму — вроде бы держал нос морковкой, вышучивал апостатский пафос журналюги Цезаря Солодаря, повсюду тогда печатавшегося: мол, гляди, каков ваш пострел!..)
В фаннинских ряженых мне сдуру почудился некий пассионарный взрыв.
Расхристанная Сарра, его бессменная «кадр?», не расставалась с талисманом — латунным лезвием гуливеровых размеров.
Их однокашник Нафин, прыщеватый внешторговский баловень, несказанно гордившийся тем, что еще в девятилетнем возрасте впервые забашлял нью-йоркской проститутке, затаривался эфедрином на всю компашку. Кличка его была перевертнем имени «Фаннин», образованного, в свою очередь, стебом на аглицкий лад.
Под верховенством Жени Шамина, ветерана хиппового движения, мечтавшего слинять на Запад с собственноручно им созданной галереей асов саксофона, «пипл» хавал «колеса» в скверике диспансера, нанюхивался растворителя, кропя им шерстяные шарфы.
Длинновласый Алекс, горбатившийся где-то гардеробщиком, занудливо вытягивал из меня информацию об аттических трагиках, время от времени поскуливая: «Ну разве ж я виноват, что у меня мама еврейка?» — «Круто, отец!» — одобрительно кивал Фаннин, выросший в семье главы института марксизма-ленинизма. «Прикольный звучок!» — балдел он под магнитофонную кассету, пока Сарра рылась в шаминской машинописи, повествовавшей о хипповых шабашах 70-х. Сам историограф движения признавался, что завернулся под одну из рок-тем, когда крошка Джаннис родила от него мертвое дитя… Шизику кололи инсулин, прикручивали намертво к кровати: так как он истошно вопил с голодухи. В доморощенном его романе, помню, один раз мелькнула фраза с живым ритмом: «Мы шагали по тротуару, игнорируя прохожих, презирали которые нас, обходили которые нас, не желали связываться которые с нами — четырьмя…»
Впрочем, довольно скоро они меня запарили. И что только в их грачином грае нашел для себя этот увлекающийся пустозвон Дима Строцев?.. Сплошное мягкотелое сумасбродство золотой молодежи. Книги волосатиками листались безалаберно. Чирики заныкивались с чистой совестью. В Троицком предместье — сердцевине их карнавала — как правило рассусоливалась дежурная дребедень…
У Фаннина с Саррой не клеилось. Публичные их разборки сделались притчей во языцех. В мае она пришлепала ко мне на «флэт» аж из Смоленска — босая, насилу улизнувшая от раскатавших на нее губу похотливых ментов. Крыла на чем свет своего миленка, так и не удосужившись омыть ступни, распространяя по комнате невыносимую вонь. «Мне с тобой клево: оба несчастные…» — набивалась она таким образом в друзья ситные.
Звали ее Света Белик — божилась, что родом из поволжских немцев. Бабка ее отмотала срок в ГУЛАГе и всю жизнь мандражировала, что ее повяжут снова. Полоумная мать трезвонила всем без разбору: «Я — член Союза художников! Отвечайте немедленно, где моя дочь?!»
Читать дальше