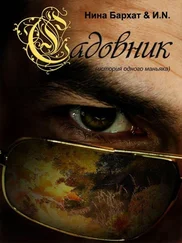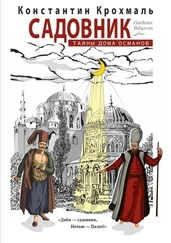С апостольским жаром Ким лобызал Артура в уста (наш гуру любил похристосоваться — всякий раз после этого я брезгливо отхаркивался в умывальник). Идол его, юный, но уже весьма заскорузлый греховодник, терпел ритуал как неизбежную плату за первородство. Зато Витька Генкин — эталон самообладания — с вящей славой нес отпущенный ему свыше генотип. Впрочем, через пару лет, сдав госэкзамены и устроившись завлитом в ТЮЗ, он привезет в Нимфск из белокаменной… услужливую и покорную осетинскую жену. Воистину неисследима вязь кущей Твоих, Садовник!..
Чтение иссякло. Рите, осанившейся между двумя Гришами — мной и Трестманом, впору было загадывать желание. О чем она могла попросить? С Женей они безысходно толклись в утлой коммуналке, давно не питая друг к другу никаких чувств. Препоручая малышку маме, вторично вышедшей замуж за естественника Новикова и уже в ту пору очень больной, студентка музыковедческого факультета страстно рвалась на сессии в Гнесинку. Москва вдохновляла ее, отворяя шлюзы ее природной пассионарности. Полька на четверть, разметав золотые локоны по плечам, она то преграждала путь фашиствующим башибузукам, шагавшим громить хоральную синагогу, то заслушивалась Чайковским в тишайшей из церквушек на Большой Ордынке.
Вояжи в столицу развили в ней особую непоседливость: Рита редко довольствовалась какой-то одной компанией, постоянно старалась объять необъятное. То же касалось и представителей сильного пола. Это она заразит меня Москвой, она — поверив мне адрес Арсения Тарковского, этот пароль паролей — накажет передать привет автору и ныне щебечущего в моих ушах певучего «Чуда со щеглом». Да, вероятно, ценный эстетический опыт, как и всякие другие тайные знания, можно приобрести лишь путем масонской общности!..
Возвращение в Нимфск окунало ее в рутину: ребенок, стряпня, репетиторство. Отдушиной служило искусство во всех его ипостасях. Графика ее обнаруживала мертвую хватку зрения: Цветаева и я — два подаренных Ритой тонких карандашных этюда. Недаром в Иерусалиме она увлечется ваянием кумиров — открыв на дому школу для начинающих скульпторов: неумолчный позыв к нарушению Моисеевых заповедей переплетется с пластической доминантой ее дара…
Даже в том, что она, Эткинд по рождению, приняла посконную фамилию отчима, было больше вызова захолустной одномерности, нежели приверженности японскому театру ноо (нимфское еврейство, в отличие от московских марранов, к подобным уловкам прибегало реже).
Пунктуация ее анжамбеманов — утыканных — точками — и — тире — щедрей — корабельной — радиограммы — восходила к интонационной одышке Марины Ивановны: тоже, как известно, непредсказуемо влюбчивой. Сказалось в этом и сострадание собственной матери, непрестанно терзаемой ужасными приступами астмы.
Одну ее строчку время не вытравило из моей памяти: «О! — Мой Господь! — О! — Родина моя!» В ней мне чудился не столько перечень ценностей, сколько мощная и оригинальная формула: подданство своей души лирик прозревал в небесной сини. Заведя вторую семью, отец ее репатриировался в начале 70-х. «Рита — ярый сионист!» — несколько раз гневно провозглашал Ким (ему самому Израиль был всегда до лампочки).
Полагаю, в ее стихах зыбился Горний Град — христианский символ, увитый естественной дочерней тоской. Небесная проекция иудейской столицы, соосная подводным стогнам Китежа, столь же сакральна для православных, что и Сион для евреев. «Если я забуду тебя, Ерушалаим, забудь меня десница моя!» На вопль Псалмопевца откликнулся в своем послании св. Павел. У Иосифа Джугашвили, воспитанника духовной семинарии, отнюдь не случайно сохла рука.
От реплик в дивертисменте, нахраписто-дилетантских, я отстранился. Зато оживился, когда пошел треп о музыке: Трестман, надувшись индюком, расспрашивал Риту о ее дипломной работе по «Игроку». Убежденный литературоцентрист, я не преминул ввернуть максиму Жана-Поля Рихтера: «Опера есть привязывание себя за уши к позорному столбу, дабы выставить на всеобщее обозрение свою голову».
Возражала она с аристократическим сарказмом: не разверзая губ — смягчая тем самым табачный привкус дыхания. Соперник мой, расслабясь на пике успеха, изображал снисходительность. Выставлять меня своим оруженосцем Гриша опасался: я ведь был свидетелем его собственной духовной зависимости от Кима.
Впрочем, в подмастерьях он и не нуждался: во-первых — потому что мастером не был, во-вторых же — из-за своей прижимистости. Однажды, зайдя к нему, я попросил «Введение в каббалу» — книгу, о которой он обмолвился накануне и которую мне почему-то очень хотелось прочесть. Скопидом вздрогнул: «Я разве обещал?» — разложив на табурете ноги в гадко смердевших носках…
Читать дальше