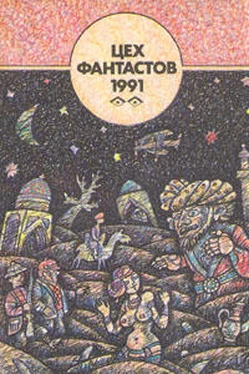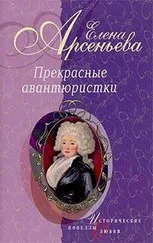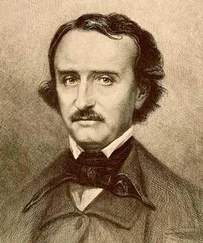В письме Аркадию Горнфельду, опубликованном в «Вечерней Москве» 12 декабря 1928 года в ответ на брошенное ему адресатом обвинение в плагиате, Мандельштам обронил: «Мой переводческий стаж — 30 томов за 10 лет…» Действительно, с начала и по самый конец 20-х годов переводы вторглись в его жизнь. Поначалу поэтические (Важа Пшавела, поэты-голубороговцы, О. Барбье, М. Бартель и другие немецкие экспрессионисты), переводы сменились на прозаические и понемногу превратились в основной источник существования, и их мощные и жадные «корни» во многом ответственны за тот пятилетний период стихового молчания Мандельштама, которым ознаменована вторая половина 20-х годов.
Роман «1002-я ночь» шведского прозаика Франка Геллера, или Хеллера, под этим псевдонимом скрывался выпускник богословской школы в Лунде Гуннар Сернер (1886—1947) — был в этом ряду не первым и не последним. Шведская энциклопедия аттестует прозаика как «мастера интеллигентной интриги и элегантного стиля». Переведенный Мандельштамом — возможно, не с оригинала, а с французского перевода-роман был сравнительно «свежим»: по-шведски он увидел свет в 1923 году, а уже 16 сентября 1925 года Мандельштам подписал с Ленинградским отделением Госиздата договор, по которому обязывался ровно через месяц представить перевод. К сроку, видимо, он поспел, поскольку окончательный расчет за этот труд помечен в бухгалтерских документах издательства 26 октября. В 1926 году книга вышла в свет.
Она не была дебютом автора на советском, жадном до занимательного чтения книжном рынке. «Дебютом» был роман «Сибирский экспресс» (1925), а в 1926—1927 годах в различных ленинградских издательствах вышли, кроме «1002-й ночи», еще пять книг Франка Хеллера («Похождения господина Коллина в Лондоне», «В столице азарта», «Безумный, в эту ночь», «Доктор Ц.» и «Шесть меню»).
О «1002-й ночи» написала рецензент «Красной нови» Н. Эйшискина. По ее мнению, это «образцово скомпонованный», «отвечающий требованиям почти совершенного сюжетного построения» роман-своеобразная «мозаика мастерски вкрапленных фабул» (Красная новь. 1926. № 4. С. 216). Три путешественника-француз, англичанин и голландец — оказались ввергнутыми в борьбу за волшебный коврик, предсказывающий судьбу, и, перебывав в самых невероятных ситуациях, выходят из них невредимыми, а голландец-к тому же разбогатевшим. Автор придает этой борьбе за «коврик» символический и политический смысл (борьба европейцев за власть и влияние на Востоке и т. п.), но читатель вправе и не следовать в этом за ним, настолько занимательна сама фабула. Нам, однако, небезразлична заключительная фраза рецензии: «Внешнее, техническое мастерство автора дополняет очень хороший перевод О. Мандельштама».
Павел Нерлер
I
Духи пророков подчинены пророкам
— Пятьдесят арабов пьют одну чашку кофе, — сказал хозяин кофейни и угрожающе замахнулся на пестрые бурнусы гостей, подступивших к кафе. Р-р-р-имши! Разве вы не видите, что у меня европейцы? Р-р-р-имши! Барра!
Восклицание прозвучало невежливо. То был клич арабских погонщиков, клич, которым обычно подгоняют ленивых и упрямых ослов. Но гости, закутанные в бурнусы, и не думали обижаться. С несокрушимым достоинством, молча, скрестив руки на груди, кутаясь в складки грязно-белой ткани, они отступили в глубину луга; они напоминали библейских пророков, канувших в недра времен. Но мысль о том, что эти люди были не простой галлюцинацией, вызванной ядом кофеина, все еще раздражала хозяина, сверлила его мозг..
По-французски, с жестким колониальным выговором, он еще раз обратился к трем посетителям-европейцам:
— Cingquangt arabes — ca boit ung café! Ung café.
Лицо его исказилось ненавистью.
— И никто сюда не заглянет, кроме арабов!
Тот, кто мысленно множил количество отпускаемых чашек кофе на пятьдесят (минимум, окупающий предприятие), считал свое негодование вполне законным и мрачно глядел на будущее. Кругом под солнцем полудня зияло величие пустыни.
На десятки миль тянулись волны песчаной земли, поросшие сорной травой, вздымались каменные гряды; справа и слева миллионы кактусообразных растений жестом бесформенно-умоляющего отчаяния разворачивали усеянные колючками листья; нигде не видно было дома, нигде не курился дымок над трубой. В этом цветении пустоты терялся железнодорожный путь. И в центре этих пустот два здания — станция Айн-Грасефия и кафе — переглядывались недоумевающе, словно спрашивая: «Что, собственно, мы здесь делаем?»
Читать дальше