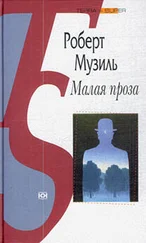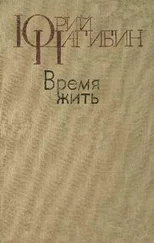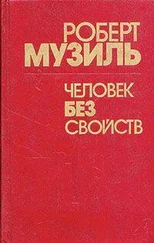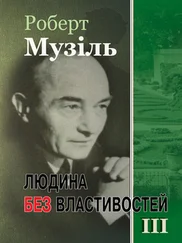[Март 1938 года.] У меня очень слабо развита потребность сообщать что-либо другим: явное отклонение от того типа личности, который выражен в писателе.
Моей моралью, видимо, всегда была та, которую я в первом томе охарактеризовал как своего рода джентльменскую мораль. Безупречный в повседневности - но надо всем этим более высокий имморализм. Сейчас, однако, подошла пора делать выбор. Это, конечно, действие нашего века, обучающего нас азам истории.
[Maй 1938 года.] За время работы над добрым десятком вариантов первых двухсот страниц "Человека без свойств" я познал очень важную вещь относительно самого себя: самая естественная для меня форма повествования ирония. Это равнозначно окончательному разрыву с идеалом, предписывающим изображение недосягаемых образцов. И также равнозначно осознанию того, что художник не должен (и не может) претендовать на философскую систему.
Совсем еще молодой человек, ты оказываешься однажды в незнакомой местности, где ты можешь положиться лишь на самые ближайшие ориентиры. Рядом есть люди, указывающие тебе ближайшие пути и затем покидающие тебя, - даже если они потом при случае и возвращаются. Вот в этой-то местности, таящей и соблазны и угрозы, ты начинаешь осторожно завладевать тем, что тебя привлекает, и вступать в противоборство с тем, что тебе угрожает. Так ты начинаешь устанавливать как активные, так и чисто духовные связи с миром. По-моему, такова исходная ситуация, в которой чаще всего оказывается человек и которая знаменует собой для большинства художников начало их творческого пути. Следы этого см., например, у Томаса Манна.
У меня все иначе. Я начал агрессивно, и моя жизненная ориентация заключалась в том, что я втискивал образ мира в крайне несовершенную рамку собственных идей. Я делал, конечно, то же, что и другие, только в большей степени. Можно выразиться и так: желание продиктовать закон отличается от желания попасть в местечко поуютней и от удивленного вопроса: "Как я вообще сюда попал?"...
Убежденная реалистичность мышления находит для себя слова при условии предварительно свершившегося самоопределения.
И лишь на исходе четвертого десятка я наверстываю упущенное и задаю себе удивленный вопрос: каким я стал? достойным ли я стал? и т. д.
К числу моих "эстетических" принципов издавна принадлежит следующий: в искусстве наряду с каждым правилом возможна и его прямая противоположность. Ни один закон в искусстве не может притязать на абсолютную истинность.
Поскольку я менее всего скептик, это убеждение привело меня к попыткам создания таких новых понятий, как "рациоидное" и "нерациоидное", а позже - к исследованию разносторонних взаимосвязей между чувством и истиной, что я попытался воплотить в "Человеке без свойств". Можно сказать, что я даже выстроил целую жизненную философию.
Но мне еще предстоит выяснение отношений с научной эстетикой например, с понятием вкусового суждения.
Если художники обычно относятся к науке об искусстве с инстинктивной неприязнью ("Мне до этого нет дела!"), то для меня все это по большей части еще не решено.
Я где-то уже формулировал понятие нервного многословия - многословия, порождаемого неврастеническим стремлением обезопасить свою позицию, то есть попросту неуверенностью. Неуверенность делает многословным.
Но многословным делает и меланхолия. Отчасти потому, что недостаточная удовлетворенность самим собой и тем, что ты делаешь, порождает неуверенность. Отчасти потому, что медленный поток мыслей, постоянные заторы и т. д. изо дня в день вынуждают возвращаться к уже сказанному, а отсюда и бесконечные вариации.
Тот, кто прочтет "Попытки полюбить чудовище" и т. п., может подумать, что я иду от Толстого. Внешне это действительно так и выглядит. Поэтому стоит отметить, что, хотя в юности мне, например, очень нравилось "Воскресение", все религиозное в Толстом оставляло меня совершенно равнодушным. Лишь когда я, работая над второй книгой "Человека без свойств", стал читать "Войну и мир", Толстой захватил меня и с этой стороны (которая тем временем образовалась и во мне самом).
Взять себе за правило, что нельзя писать "против" своих персонажей и что вообще на каждое "против" надо говорить "за" (будь это даже в каком-либо другом отношении).
Об отношении писателя к своей эпохе. Говорят, ты не идешь в ногу с эпохой, отстаешь, не находишь общего языка, не вносишь вклада и т. п.; что касается меня, я, будучи художником, открывался лишь навстречу сугубо художественному; Достоевский, Флобер, Гамсун, Д'Аннунцио и др. - ни одного современника! Все писали лет двадцать, а то и лет сто назад!
Читать дальше