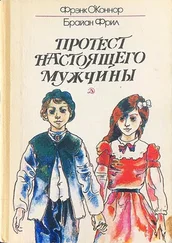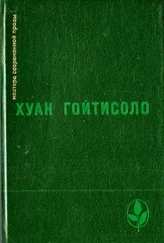Я вынужден повторить - формы тургеневского письма стали теперь уже шаблоном и ускользают от внимания. Весь рассказ уложен в события одной ночи. Мы узнаем, как рассказчик, отправившийся на охоту вместе с Ермолаем, попал на мельницу, как грубо встретил их мельник, когда они попросили пристанища, как ускользнула из дома мельничиха, чтобы несколько минут поговорить с Ермолаем, и, наконец, знакомимся с печальной историей неблагодарной девки, изложенной некогда барином Арины, г. Зверковым, мужем "ангела во плоти", - историей, которую вспоминает рассказчик. Только под занавес появляются два действительно важных героя, Арина и Петрушка, о котором сказано мимоходом в нескольких строчках, передающих как бы случайный разговор между рассказчиком и Ермолаем:
" - И Петрушку-лакея знаешь?
- Петра Васильевича? Как же, знал. - Где он теперь?
- А в солдаты поступил.
Мы помолчали.
- Что она, кажется, нездорова? - спросил я наконец Ермолая.
- Какое здоровье!.. А завтра, чай, тяга хороша будет..."
Перед нами сущность современной новеллы, великолепное развитие Тургеневым гоголевской находки. И все же, повторяю, этот прием настолько затаскан последующими писателями, что уже не действует на нас так, как, должно быть, действовал на современников Тургенева, Вбить историю целой жизни во впечатления и замечания двух-трех второстепенных персонажей прием нартолько затрепанный, что я, например, предпочел бы от него отказаться и рассказал бы эту историю так, как сделал это здесь - в хронологическом порядке, без ухищрений и изысков. Полагаю, что так же рассказал бы ее зрелый Тургенев. Однако в своем историческом контексте рассказ этот вызывает восхищение - и той смелостью, с какой история Арины сценически подана читателям, и тем, как из сумятицы незначительных деталей прорывается на мгновение огромная человеческая боль, словно голос самих обездоленных. Этот прием был также любимым у Роберта Браунинга, и если читать одновременно рассказ "Ермолай и мельничиха" и стихотворение "Моя последняя герцогиня", то можно обнаружить, что эти два произведения объясняют друг друга, вплоть до нарочитого хода в сторону в конце как того, так и другого. "А завтра, чай, тяга хороша будет..." у Тургенева перекликается с заключительными строками "Моей последней герцогини" у Браунинга:
Взгляните - вы должны, я убежден,
Одобрить эту бронзу: Посейдон,
Морского усмиряющий коня,
Ганс Инбрукский сработал для меня.
[Пер. М. Донского.]
Да и сами действующие лица тоже перекликаются между собой: Арина и герцогиня, Петрушка и фра Пандольфо, г. Зверков и герцог - холодный эгоцентрик, убивший невинную любовь и нежность двух сердец.
Но в "Записках охотника" есть даже еще более характерные, чем рассмотренные выше, рассказы, как, например, те два, которыми так восторгался Генри Джеймс, - "Певцы" и "Бежин луг". В "Певцах" описывается певческое состязание, происходящее в деревенском кабаке, а "Бежин луг" повествует о четырех пареньках, пасущих ночью коней на лугу у реки и коротающих время в рассказах о привидениях. Внешне по крайней мере это все, что автор стремится в них описать; на самом деле в первом говорится о способности искусства вносить смысл в обессмысленный мир, а во втором - о бессмысленности жизни как таковой и ужасе, который охватывает человеческую душу, оставшуюся один на один с Природой и ночью.
Английскому или американскому издателю тургеневской поры пришлись бы больше по вкусу два последних рассказа, потому что ему не составило бы труда определить их жанр. Он сразу же отнес бы их в разряд эссе, типа тех, какие писались Хэзлиттом, и опубликовал бы под названием "Сельские баллады" или же "Истории с привидениями". Но он, несомненно, никак не мог бы взять в толк, почему мы называем их рассказами, ведь в его представлении рассказ - это повествование, которое зиждется на интересе к событиям, а Тургенев от этого попросту отказался, заменив статическими описаниями, характерными для эссе или поэзии. Правда, в конце "Бежина луга" он на мгновение позволяет возникнуть интересу к событию: Павел, самый смелый из четырех парнишек, утверждает, что слышал голос утонувшего товарища, который звал его из речных глубин. Но в последнем абзаце Тургенев намеренно уходит от возможного эффекта, сообщая нам, какая судьба постигла Павла на самом деле:
"Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!"
Читать дальше