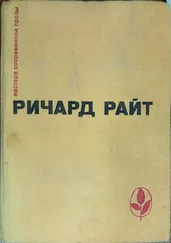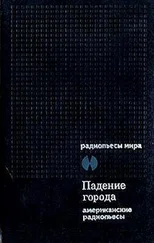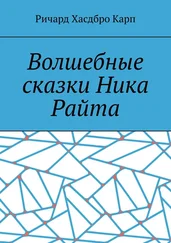Произошла эта история на самом деле или ее выдумали, не знаю, но я верил в нее всей душой, потому что привык жить с ощущением, что на свете существуют люди, которые по своей прихоти могут отнять у меня жизнь. Я решил, что, если мне когда-нибудь придется столкнуться с белыми, я поступлю, как эта негритянка: замаскирую оружие, притворюсь, что убит горем и ни о чем, кроме своей потери, не помню, они подумают, будто я смирился с их жестокостью и принял ее как непреложный закон, и тут-то я выхвачу свой револьвер и буду стрелять в них, стрелять, стрелять, пока они не убьют меня. Рассказ о том, как негритянка обманула белых, помог оформиться тому смутному протесту, который давно уже бродил во мне.
Конечно, ни в какие действия он не выливался. Мои фантазии так и оставались лишь в моем воображении, потому что я чувствовал себя совершенно беспомощным перед лицом угрозы, которая в любую минуту могла меня настигнуть, и потому что я знал: если белые захотят со мной расправиться, ничто не спасет меня. Я черпал в своих фантазиях поддержку, они помогали мне выжить, не сломиться под угрозой насилия.
Эти фантазии были не просто попыткой защитить себя от белых, они вошли в мою плоть и кровь, стали моим кредо, моей религией, жизнью. Ненависть белых так прочно въелась мне в мысли и в душу, что потеряла связь с повседневной реальностью, и настроения, которые эта ненависть во мне вызывала, питали сами себя, они разгорались и затухали в зависимости от того, что я слышал о белых, в зависимости от того, на что я надеялся и о чем мечтал. Стоило кому-нибудь произнести слово "белые", и я сжимался, во мне вскипала волна самых противоречивых чувств, докатываясь до самых потаенных уголков моего существа. Казалось, надо мной довлеет власть враждебной стихии, которая в любую минуту может разбушеваться. Белые пока еще не причиняли мне зла, но сознание того, что они существуют, вызывало у меня такую боль и гнев, будто меня линчевали сотни, тысячи раз.
Бог знает, сколько времени мы прожили в Уэст-Элене, прежде чем я смог наконец вернуться в школу. Матери посчастливилось устроиться на работу к белому врачу, который обещал платить ей неслыханное жалованье - пять долларов в неделю, и она тотчас же объявила, что ее дети будут снова ходить в школу. До чего я обрадовался! Но я все еще был очень застенчив, страшно терялся на людях, и в первый же мой день в школе ребята меня обсмеяли. Учительница вызвала меня к доске и велела написать мои имя, фамилию и адрес. Я знал свой адрес, умел писать, мог написать все, что она мне велела, без ошибок, но сейчас, под взглядами стольких пар глаз, устремленных мне в спину, на меня будто напал столбняк, я не мог нацарапать ни буквы.
- Что же ты, напиши свое имя, - сказала учительница.
Я поднес к доске мел, собираясь писать, но вдруг почувствовал, что все мои мысли куда-то сгинули, я забыл, как меня зовут, забыл даже, с какой буквы мое имя начинается. Кто-то засмеялся, и я весь съежился.
- Не думай о нас, просто пиши свое имя и адрес, и все, - уговаривала меня учительница.
Я мысленно рванулся написать, но рука у меня будто отнялась. В классе захихикали. Я залился краской.
- Ты что же, не знаешь, как тебя зовут? - спросила учительница.
Я глядел на нее и не мог произнести ни слова. Учительница встала, ободряюще улыбнулась, подошла ко мне и ласково положила руку на плечо.
- Как тебя зовут? - спросила она.
- Ричард, - прошептал я.
- А фамилия твоя как?
- Райт.
- Скажи по буквам.
Я выпалил буквы со скоростью пулемета, страстно надеясь, что теперь-то мне простят мой столбняк.
- Помедленней, а то я не разобрала, - попросила учительница.
Я повторил.
- Отлично. А писать ты умеешь?
- Да, мэм.
- Вот и напиши.
Я снова повернулся к доске, и поднял руку, и снова почувствовал внутри себя бездонную пустоту. Я из последних сил пытался собраться с мыслями, но не мог вспомнить ровным счетом ничего. Я ощущал только одно: за спиной у меня сидят ребята и ждут. До сознания дошло, как бесповоротно и окончательно я опозорился, ноги у меня стали ватные, перед глазами все поплыло, я прижался горячим лбом к холодной доске. В классе захохотали.
Я оцепенел.
- Садись, - сказала учительница.
Я сел, проклиная себя. Ну почему, почему я всегда так теряюсь на людях? Ведь я умею писать не хуже этих ребят, а уж читаю наверняка лучше и рассказываю хорошо и складно, когда чувствую себя уверенно. Почему же при виде незнакомых лиц на меня нападает столбняк? Уши и даже шея у меня горели, я слышал, как ребята шепчутся обо мне, и ненавидел их, ненавидел себя; я сидел неподвижно, но в душе у меня бушевала буря.
Читать дальше