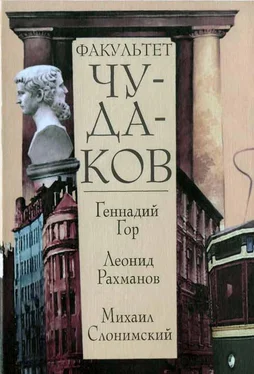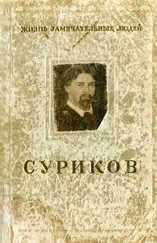— Я не натурщик и не манекен, — сказал он, — и у меня так много знакомых художников, что если я позволил бы каждому из них писать свое лицо, то постепенно оно утратило бы всякое выражение и, перестав быть лицом, превратилось бы в маску.
Было не понять, посмеивался ли он над самим собой или над Колобковым, или над всеми вместе.
Он остался сидеть, где сидел, и пить чай. А художник Колобков отправился домой. Ему не нужно было зарисовывать лицо абстрактного гражданина, он помнил его все, начиная с волос и кончая подбородком.
Он возвращался. И чем ближе он подходил к своей квартире, тем отчетливее ему представлялись фигура и физиономия провокатора. И вот перед его умственным взором личность провокатора была целиком. Это было создание его синтетического воображения, создание, в которое вошло нечто от Бородкина Виктора, нечто от Бородкина Франца, кое-что от Бородкина Ивана Ивановича и еще от многих других. Оно походило на того конкретного провокатора, которого он искал в продолжение тринадцати лет, и не только на него, потому что оно должно было изображать не только провокатора в частности, но и провокатора вообще. Оставалось только взять кисть и выжать краску. И художник Колобков выжал на палитру краску и взял кисть, чтобы осуществить свой замысел.
В беспредметной живописи своего сна Андре Шар узнал свою собственную живопись.
Сон водил его по комнате. Он показывал ему свой язык и его собственные картины.
Да был ли это сон?
Язвительный и реальный, как повседневные действия, совершаемые человеком при солнечном свете, да, это был сон.
Да были ли это его собственные картины?
Чудовищные, алогичные, подобные пощечине сумасшедшего, предутренние, способные довести до изнеможения, гнойные и торжественные, птицеобразные, изогнутые, похожие на протоплазму, слабогрудые, случайные, освистанные им сегодня и оплеванные им, да, это были его собственные картины!
Этот сон походил на антиквара. Он был услужлив и обстоятелен, точно показывал картины американскому, очень богатому покупателю. Но сон был, кроме того, насмешлив и нахален: не покупателю — художнику он показывал его собственные картины.
Сон придерживался хронологии, сначала он показал Андре Шару ранние работы Андре Шара. Это были узенькие дощечки, где изображения вещей стремились стать изображениями людей, а изображения людей — изображениями вещей. Предметы, вырванные метафизической рукой художника из действительности, изолированные или перенесенные в другую среду, выглядели таинственно и странно, как выглядел бы обыкновенный желтый примус, поставленный рядом с изображениями богов древних и величественных.
Очертания мира реального и мира несуществующего сливались. Изображенный человек был равен окружающему. Преобладали светло-желтые тона и темно-розовые.
На секунду выглянула первая работа Андре Шара: Адам и Ева.
Адам был изображен низеньким розовым толстяком на зеленом фоне. Одна нога его стояла на земле, конец второй — уходил в неизвестное. Адам смотрел вверх. Над ним парила лимонно-желтая Ева с громадным лицом на длинной узкой шее, которая была длиннее самой Евы. В правой руке Евы росло фантастическое дерево.
Затем узенькие дощечки сменились холстами. Это была следующая серия. Здесь машина изгоняла человека с земли, как Бог Адама и Еву из рая. Но изображенная машина была еще мстительнее, чем Бог, и еще ужаснее. Потому что Бог был только Бог, а машина была машина. Она гналась за человеком, вот-вот она чуть не настигла его, и вот она его раздавила.
Третий период, последний по времени, уже был беспредметный в полном смысле этого слова. Он включил в себя месть Андре Шара за человека, за человеческий страх, за порабощенное воображение, за тоску, за одинаковые вещи и одинаковые желания, за лица детей в подвалах, за чудовищные извращения, за безумие, за измену, за неясные перспективы, за то, что человек измеряет свою жизнь часами, — а вещь столетиями, за плешивых женщин и мужчин, напоминающих овощи, за депутатов парламента, за педерастов, за дерево, одиноко растущее в асфальте, за физиономии полицейских и великолепных дам, за помойные ямы, за отсутствие искренности, за груди женщины, вырванные ради красоты, за уличное движение, за крысу, которая просверлила дыру в его полу, за бездарные книги, за бессмысленные и дряблые мускулы, за вонь бензина, за отсутствие весны, за сплин, за современную буржуазную философию, за людей с одинаковой челюстью, за посредственность кинематографа, за отсутствие подбородков, за накрахмаленность разговоров и мысль, похожую на всякое отсутствие мысли, за всю эту гниль, завернутую в непромокаемый плащ, и за всех этих изогнутых как спираль уродов, он мстил машине, этой реализованной мысли человека, по его мнению, ставшей его диктатором. Для этого он размашинил машину. Он пошел еще дальше, он развеществил вещи. Распредметил предметы. По крайней мере так ему казалось. Он возвратил все существующее к тому космическому и первоначальному хаосу, который существовал еще до появления всякой формы. Форма, предметность сама по себе ему представлялась враждебной, форма сковывала сущность.
Читать дальше