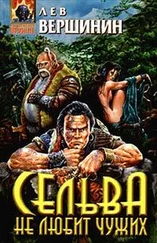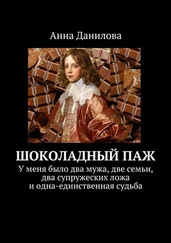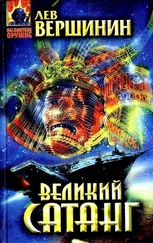— В свое время, — рассказывает врач Гуидо Альманси, — мы имели дело с полными дилетантами. «Здесь болит, — говорили они, — а вот тут какая-то тяжесть». Теперь же к нам являются люди, занимающиеся самоисследованием. Они сравнивают свое недомогание с симптомами, описанными в медицинской рубрике иллюстрированного журнала. Больной приходит в профсоюзную поликлинику, щупает себе брюшную полость и заключает: «Я думал — печень, а это чуть ниже: наверно, мочевой пузырь, должно быть, у меня камни, но я не хотел бы оперироваться, потому что один мой приятель хоть и чувствует себя после операции вполне прилично, но раздался вширь, как гиппопотам». Говорил он с уверенностью, пальпировал себя тоже правильно: задерживая дыхание и соединяя пальцы при прощупывании. Правда, всю эту операцию он производил слева, со стороны селезенки.
Самодиагноз — болезнь века. Врачи слушают наши выдумки о спазмах коронарных сосудов или невровегетативных дистониях, с важным видом соглашаются, никогда не перечат, ибо это опасно, как с сумасшедшими.
Мы вещаем, словно участники симпозиума врачей, досконально разбирающиеся в разных тонкостях (нет-нет, это не органическое, а функциональное расстройство), приводим цитаты статьи о миокарде из энциклопедического словаря Треккани.
Перейти от холестерина к ортопедии для пациентов плевое дело.
— Пятьдесят лет издательской деятельности Риццоли, — говорит Джузеппе Галли, — оставили след в Болонье: люди набрались медицинских терминов. «У меня боли в затылочной области», — жалуются классные дамы, страдающие простой мигренью или климактерическими головокружениями.
Но главным образом самодиагнозом отличается молодежь. Если пожилые люди все еще продолжают тщательно описывать свои боли и движения, вызывающие их, то студенты с порога заявляют: «У меня оборвался мениск, нужна срочная операция». — «Интересно, что заставило вас прийти к такому выводу?» — «У меня те же симптомы, что и у Бонинсеньи, и это подтвердил мой тренер по гимнастике». Часто пациенты испытывают разочарование, узнав, что у них самое обычное растяжение связок.
Гипертрофированная склонность к исправлению врожденных недостатков — это настоящая эпидемия, которая свирепствует среди матерей.
— Приносят мне младенца в бутсах, ибо родители решили, что он нуждается в супинаторе, — рассказывает Витторио Мальетта, — настаивают на госпитализации после тонзиллита, чтобы удалить миндалины, а я не выдерживаю и ору: почему бы ребенку заодно не удалить и башку, дабы у него никогда не болели зубы. Либо требуют справку, чтобы пристроить двухмесячного сосунка в бассейн и предупредить таким образом искривление позвоночника. Мне пришлось стать усердным читателем рубрик здоровья, которые публикуют популярные журналы: должен же я понимать материнскую психологию, чтобы как-то бороться с ней.
Склонность к самодиагнозу не имеет никакого отношения к образованности пациента. Наоборот, как показывает статистика, адвокаты, инженеры и другие высокообразованные люди меньше, чем кто бы то ни было, способны разобраться в состоянии своего здоровья. Они ограничиваются рассказом о своих ощущениях и слушаются врача. Самодиагноз — это настоящее призвание: к нему склонны люди эмоционально неуравновешенные и одержимые манией величия.
Самодиагноз, в общем-то, не сбивает с толку хорошего врача (мы уже привыкли по-своему толковать чужие толкования); с этим согласны и психиатры: больной, обладающий подобными наклонностями, — это всего лишь словоохотливый человек, от которого при правильном подходе можно добиться всего, что поможет составить правильное представление о его состоянии, например констатировать скрытую агрессивность, выдаваемую за «недостаточность кислородного питания левого желудочка».
И все же указанное явление имеет место и получает все большее распространение. Все мы немного похожи на студентов четвертого курса медицинского факультета, которые при изучении каждой новой болезни обнаруживают у себя ее симптомы.
Чтение рубрик или разделов, посвященных в журналах здоровью, должно было бы служить одной цели: вызвать у человека беспокойство — нет ли и у меня чего-нибудь похожего, не лучше ли показаться врачу. Вместо этого мы приписываем себе невероятные болезни, относимся к медицинским заметкам, как к индивидуальному гороскопу (мы всегда готовы поверить таинственному оракулу). Ведь как было бы хорошо лечиться самому, конечно, с помощью друзей, у которых можно при случае спросить: а у тебя кололо в боку при глубоком вдохе? Выздоровевший друг — гарантия успеха. При этом неважно, вылечился ли он от невроза или настоящей язвы желудка. Многие врачи поощряют такое самолечение. Не осматривая больного, они на основании его рассказов предписывают лекарство.
Читать дальше
![Лев Вершинин Два веса, две мерки [Due pesi due misure] обложка книги](/books/134690/lev-vershinin-dva-vesa-dve-merki-due-pesi-due-mis-cover.webp)