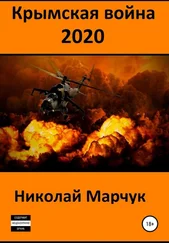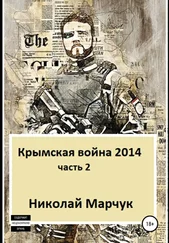— Я тоже так считаю, хоть и не был на месте событий, — просто сказал доктор. — Вы, как я догадываюсь, хотите, чтобы я взял схемы и записи и спрятал в надежном месте? Сделаем. А я запомнил слова Н. Адамовича [4] Н. Адамович — псевдоним В. Воровского.
. Великолепно он написал в «Новой жизни». И заголовок точный — «Севастопольское одоление». Да, на этот раз нас победили, писал он, но всякий человек, способный разбираться в событиях, видит ясно, что севастопольское одоление — это пиррова победа, что еще одна такая победа — и треснувшее по швам здание самодержавия рассыплется в прах. Очень точные слова. Устали?
— Устал. Да и грустно что-то.
— Что же, грустить иной раз надо. Но помните: это наша земля! Наша! Не Думбадзе и не его высочайших повелителей. Нам она принадлежит по праву и навсегда. А им же — временно и по воле случая. Дайте-ка еще раз руку… Да-с, пульс отличный. Вы из породы долгожителей. И вам, надеюсь, еще предстоит увидеть и другие времена — ясные, светлые… Мне бы тоже хотелось! Но возраст есть возраст. Я вам завидую — чистой, нетемной завистью.
Доктор неловко и несмело протянул руку и похлопал Владимира по плечу.
— Спите!.. А завтра?.. Завтра — новый день.
Когда-нибудь, а может быть, очень скоро, вы обязательно побываете в Крыму. Не минуете, конечно, и Симферополь. Постарайтесь зайти в местный краеведческий музей, чтобы посмотреть картину, о необычной судьбе которой вы только что узнали. Ее прятали пятнадцать лет — в Ялте, в Симферополе, в Бахчисарае, — вплоть до освобождения Крыма от Врангеля. Все эти годы жандармы разыскивали ее, потому что в конце концов подозрительный Думбадзе все же почуял, что его ловко провели. Но, как вы знаете, «крамольное» полотно, эту картину-документ удалось спасти.
Пылает «Очаков», как неопалимая купина, горящий, но несгорающий. И в сознании каждого из нас таким он и останется — в клубах дыма, нависших над ним, как зловещие гигантские облака, в лучах прожектора, с красным флагом на мачте, гибнущий, но не сдающийся. И вы, конечно, вспомните о тех, кто имел отношение к судьбе картины. И возможно, вам захочется узнать, как сложилась жизнь этих людей после трагических событий 1905–1907 годов.
Александр и Владимир дожили до наших дней. Один стал крупным общественным деятелем. Второй художником, как мечтал в юности. Его работы нынче можно увидеть в экспозициях многих музеев, и не только крымских.
Витька Эдельвейкин, окончив реальное училище, одно время работал машинистом на прогулочном пароходе, а во время гражданской войны и врангелевщины партизанил в Крымских горах. Дальнейшая его судьба связана с Красной Армией.
Полковник Виктор Петрович Эдельвейкин погиб во время освобождения Польши, в 1944 году, на окраине города Жешува. Вместе с его личными вещами был отослан родным и медвежонок из арагонита. Никто не знал, что это за игрушка, почему она оказалась в кармане сурового начальника штаба дивизии.
Известно, что Надежда в 1920 году уехала сначала в Стамбул, а затем жила на юге Франции. Можно предположить, что поначалу пришлось ей несладко. В письмах в Тулу, к двоюродной сестре, она сообщала, что живописью больше не занимается, литературные амбиции забыты, но уже в возрасте далеко за сорок она нашла для себя «доходное занятие» (в письме так и сказано — «доходное») — из стебельков различных по цвету трав выкладывала орнаменты, которые находили сбыт у отдыхающих.
А теперь о Симонове и Шуликове. Симонов не утонул. Он через день вновь объявился в Ялте, распугивая щелкавших семечки у входа в свои дома кумушек. Вскоре он продал магазин и фотографию и уехал в Сибирь начинать новое дело.
А Шуликов, конечно, должен был еще чем-нибудь удивить честной народ. И удивил. В начале 1907 года его устричный завод оказался под угрозой. Случайно завезенная на днищах кораблей ракушка под названием «рапана» принялась поедать устриц. Тогда он продал завод какому-то немцу, а тот с помощью хитроумных порошков, хорошо растворявшихся в воде, обуздал наглую «рапану». Сам же Шуликов, говорят, отыскал в Симферополе граммофонщика Попкова и вместе с ним отправился в Новую Зеландию, где долго торговал у властей доминиона какой-то микроскопический необитаемый остров, на котором собирался устроить некое «государство музыки». Попков, вероятно, не дожил до 1917 года, а Шуликов в начале двадцатых годов вернулся на родину, работал экскурсоводом в Евпаторийском курортном бюро. По отзывам, это был хороший и очень толковый экскурсовод.
Читать дальше
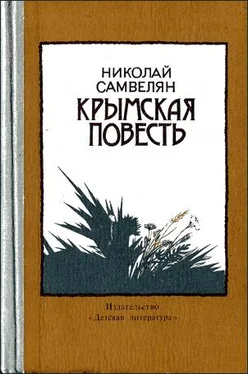


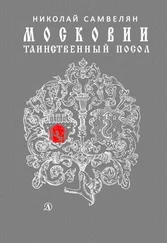
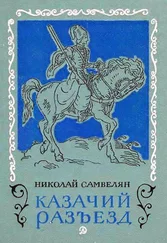

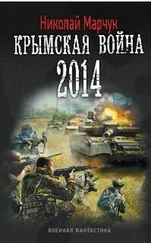
![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/books/212684/nikolaj-suhov-donskaya-povest-natashina-zhalost-p-thumb.webp)