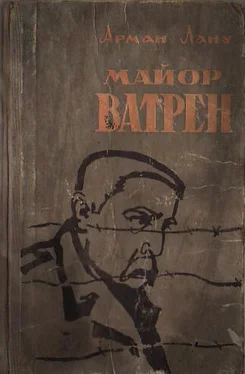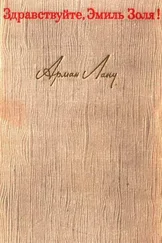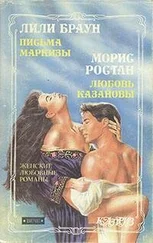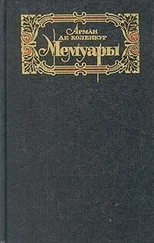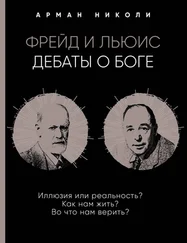Камилл взял из рук Ванэнакера картонный лифчик, которому предстояло изображать прелести легкомысленной Адэ. Он был выпуклый, округлый, но такой жесткий! Камилл постучал по нему согнутым указательным пальцем, послышался глухой звук.
— Ну конечно, — сказал Альгрэн, — надо иметь мужество признать, дорогой Ванэнакер, что есть вещи, которые невозможно воспроизвести. Я, конечно, отнюдь не беру под сомнение искусство «раскладных», но…
«Раскладными» называли Ванэнакера и Параду. Они удивительно подходили друг к другу — один блондин, другой брюнет, оба одинаково рослые, около метра девяносто. У Параду, бывшего студента Центрального технического училища, были удивительно ловкие и умелые руки, он постоянно что-то мастерил из жестяных консервных банок, так же как Ванэнакер — из дерева и картона.
В дверь снова просунулась чья-то голова, и человек с добродушной усатой физиономией, похожий на угольщика, спросил:
— Ван, двух больших гвоздей не найдется?
— Нет, — сердито закричал Ван.
— Мне нужно полку прибить, — спокойно продолжал тот. — Я сделал полку, а она сегодня ночью свалилась мне на башку…
— Нет, хватит, довольно! Лезут ко мне со всех сторон… Нет у меня гвоздей! И инструмент больше никому давать не буду. Недавно какой-то подлец взял у меня стамеску и вернул мне ее зазубренной. Не дам, да и все! — И тут же сразу, без перехода: — Сколько штук тебе надо?
— Четыре, — с грустью сказал вошедший. — И кроме того, мне понадобятся кусачки.
— Кусачки! — вздохнул Ван, задетый за самое больное место. Он поднял руки к небу, как бы призывая его в свидетели, но сказал: — Приходи после ужина!
Камилл снял китель и остался в шерстяном свитере цвета хаки, который облегал его тонкую талию и плечи, слишком широкие если не для мужчины, то для женщины. Он приложил картонный лифчик к груди, поглядел на него, опустив подбородок, и, подражая капризной кинозвезде, закричал:
— Костюмерша! Послушай, Ван, помоги мне, я не могу так… Я буду жаловаться в Союз актеров!
Ван стал прилаживать лифчик. Огромные руки с прямоугольными пальцами работали поразительно ловко.
— Ты меня щекочешь, — сказал Камилл.
— Я тебе уже говорил, прибереги свою кокетливость для сцены, — сказал Франсуа. — Оставь это платье, и будем продолжать репетицию.
Однако у младшего лейтенанта Камилла, как у настоящей женщины или у настоящей кинозвезды, воплощающей самую природу женственности, были свои капризы, и он не успокоился, пока не примерил платье, приложив его к груди. Он смотрелся в большое зеркало, составленное из множества кусков, повернулся, качнул бедрами и легким движением руки выпустил на лоб светлую челку.
— По-моему, от такого зрелища кровь в голову бросается, — сказал Альгрэн. — Не понимаю, как вы можете привыкнуть к этому! Или, если угодно, наоборот — не следует ли опасаться, что вы к этому привыкнете, так же как и актеры елизаветинского театра. Не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь. Что вы думаете об этом, полковник?.
— Я, как вы знаете, старый солдат, — ответил Маршандье. — Гм! В сущности, я хочу сказать, что в 1924 году у нас в Марокко, в пустыне, я навидался театральных представлений…
В глазах у полковника зуавов промелькнула подозрительная искорка. Он покраснел и тяжело задышал.
— Простите, господин полковник, — перебил Альгрэн, — так же, как и у елизаветинцев, они у вас были, наверное, помоложе, я имею в виду актеров…
— Ах, скотина! — сказал Камилл с удивительно правдивой интонацией.
— Вот это самое и требуется, — воскликнул Субейрак. — Эта самая интонация и нужна! Давай твою реплику! И тон, и голос, и жест — как раз то, что нужно. Ну, давай…
Камилл послушно начал:
— «…утка с лимонным соком. А потом, ночью, мы поедем в Париж. Обожаю ночную езду…»
Потому ли, что за последние десять минут стало заметно темнее — с Балтики или из России двигались темные тучи, — потому ли, что до них доносились изысканно-прихотливые звуки чьей-то импровизации на рояле, или благодаря магическому воздействию актерской игры и снисходительности этих мужчин, лишенных женского общества, — как бы то ни было, несколько секунд иллюзия была полной — среди них появилась женщина.
Франсуа ликовал. Может быть, все-таки удастся поставить пьесу Салакру. Он снова начинал верить в успех при виде этого чудесного превращения… Волнуя всех своей искренностью, Камилл продолжал:
— «Прильнуть к человеку, которого любишь, запрокинуть голову к небу…»
Читать дальше