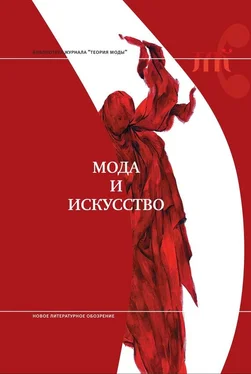У истории искусства и истории моды много общего – особенно если речь идет о конкретной одежде. В обоих случаях сперва производится оценка провенанса, подлинности и атрибуция объекта, затем он подвергается стилистическому анализу, изучается его социальный контекст, способ производства, особенности рецепции (последняя задача зачастую оказывается самой сложной) и роль, которую он сыграл в визуальной традиции и в истории того рода, которому он принадлежит. В обоих случаях задача изучения объекта – искусства или одежды – стара как мир: люди всегда интересовались самими собой и окружающей реальностью и стремились сохранить знания о своем облике и культуре; в качестве академических дисциплин обе разновидности истории, однако, существуют относительно недолго.
Чтобы разобраться в том, как связаны история искусства и история моды, необходимо наметить некоторые основные темы истории искусства, поскольку именно эта дисциплина сформировалась первой. Максимально упрощая, можно сказать, что в ее рамках практикуются два основных подхода. Первый описан выше, он направлен на изучение объекта; помимо стилистического анализа объекта, он предполагает оценку его качества (знаточество) и классификацию фигур/форм в соответствии с хронологической шкалой (типология). Ключевое внимание уделяется индивидуальному творчеству художников и их позиции в мире – метод, который маркируется как гуманистический. Ясно, что большинство перечисленных установок применимо и к истории моды, и к более широкой истории костюма – так же как и разработанная довоенными искусствоведами теория развития культуры как цикличного процесса зарождения, расцвета и упадка. В этом контексте Ренессанс привычно почитали как период, когда совершенство было достигнуто во всех видах искусства; и в то же время вводится понятие иерархичности искусства и проводится граница между высокими и прикладными видами искусства; к последним относится и мода. Эта теория – подразумевающая, что «высокое» искусство, создание гения, непременно благородно, возвышается над бренным миром и непрактично, тогда как прикладное искусство, или ремесло, утилитарно и функционально, – не могла служить бесконечно. Так, архитектура относилась к категории «высокого» искусства, но вместе с тем отличалась функциональностью, содержала в себе то качество, которое поэт и дипломат сэр Генри Уоттон в «Элементах архитектуры» (1624) именовал «удобством» (commodity), то есть практичностью. К середине XIX века традиционные различия между видами искусства начали размываться под влиянием работ таких художников-дизайнеров, как Уильям Моррис; во второй половине ХХ века художники использовали ткани и прикладные техники, например вышивку, для создании произведений, заключавших в себе широкий спектр эстетических, социальных и политических коннотаций [433]. Эпоха Ренессанса придавала первостепенное значение уникальности каждого отдельного художника; тенденция изменилась в XVIII веке, когда немецкий археолог и эллинист Иоганн Иоахим Винкельман представил новую концепцию культурной истории, согласно которой произведение искусства в значительной степени зависело от культуры, в рамках которой оно возникло. Именно этот период характеризуется расцветом «любви к древностям», хотя зарождение последнего связано с произошедшим в эпоху Ренессанса открытием заново классического прошлого. Результатом явилось развитие систематической классификации объектов искусства (XVIII столетие питало пристрастие к кодификации знания), а также появление музеев, в том числе имевших и коллекции костюма.
Второй из двух упомянутых выше подходов к истории искусства зародился во второй половине ХХ века и подразумевал отказ от иконографии (идентификации и анализа изображений) в пользу изучения теорий и идеологий, обусловивших создание объекта, нежели изучения объекта как такового. Как пишет Эрик Ферни в работе «История искусства и метод: критическая антология» (Art History and Its Methods: A Critical Anthology), в «новой» истории искусства «центр тяжести смещался с объектов в сторону социального контекста и… структуры социальной власти, а затем – на политику, феминизм, психоанализ и теорию» [434]. В отличие от предшественников, искусствоведов в наши дни куда больше интересует современное им искусство, и можно часто заметить тенденцию к тому, чтобы рассматривать прошлое сквозь призму идеологических проблем современности; в зависимости от автора или контекста этот метод чреват свободой трактовки или искажением материала. Новые подходы умаляют значение реалистичного изображения рода человеческого и подразумевают меньший интерес к личности; произведения искусства объясняются с точки зрения психоанализа и преимущественное внимание уделяется народному творчеству и массовой культуре.
Читать дальше