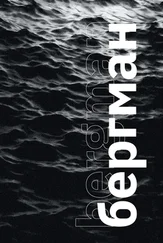Неважно, привнесет ли это конструктивную неопределенность в критический дискурс, но это позволит представить, что в построении теории относительно какого-либо предмета все еще участвует чувственность, если и не столь метафизическая, то возвысившаяся за счет своей мимолетности: возможно, мимо проходит женщина, или я сам прохожу и выхватываю своим портновским взглядом итальянскую ткань (пожалуй, смягченную жемчужно-серым нарядом из чистого кашемира с воротником-шалькой!), или меня притягивает, развеивая мрачность торгового центра, стойка с одеждой. Когда я жил в Нью-Йорке или приезжал туда, я устраивал над самим собой эксперименты в разных дизайнерских магазинах фешенебельного флагмана Barney’s (не того, что на Мэдисон-авеню, а того, что на углу Седьмой авеню и Семнадцатой улицы – адрес, который невозможно забыть, в тяжелые для Barney’s времена вылетал из допотопного радио, произносимый громким гнусавым голосом: «Никакой чуши, никакого мусора, никаких подделок!»), впрочем, обанкротившись под игом японских партнеров, флагман сел на мель; так закончилась целая глава моей собственной жизни в моде. Однако подспудно я испытывал на себе влияние и других сил; если мода соткана из риторики, то никто не владел ею лучше, чем руководитель страховой компании в Хартфорде и по совместительству поэт Уоллес Стивенс: он описал «блаженство пеньюара», «прически башенные батских дам» и (еще одна, вневременная связь с Японией) красавиц Утамаро с «роскошью» их «черных кос» [323]. Возможно, это звучит несколько экзотически или излишне помпезно, но строки ниже, несомненно, относятся к высокой моде: «Бриллиантовое кружево, сапфировое кружево, / Блестки / Мирских вееров» («The diamond point, the sapphire point, / The sequins / of the civil fans») и самые замечательные, с усилием вырванные у несовершенства: «кропотливые переплетения, которые вы носите на себе» [324].
Вполне возможно, что мое переживание моды неотделимо от неопределенных, но субъективно ощущаемых свойств языка, оформляющего мои мысли. Витгенштейн в «Заметках о цвете» писал: «В конце концов, не существует общепринятого критерия для описания сущности цвета, если только это не один из известных нам цветов» [325]. Точно так же иногда говорят о модном вкусе. В том, что касается и языка, и моды, мой вкус был сформирован горделивыми женщинами Генри Джеймса, а также другими запоминающимися литературными образами, часть из которых были воспроизведены в кино с таким старательным вниманием к эпохе: Джейн Остин, сестры Бронте, Джуна Барнс и Вирджиния Вулф (экстравагантность Орландо или непревзойденная, на собственном приеме, «в серебристо-зеленом русалочьем платье» миссис Дэллоуэй, которая «еще сохранила этот свой дар; быть; существовать» [326]; или, по другую сторону Ла-Манша, Колетт, которая была манекенщицей; Пруст, который мог разглядеть венецианскую лагуну в платье от Фортуни; и Бальзак, чьи повествования о моде могли бы сравниться с каталогом или с монографией, повествующей об истории костюма. У меня до сих пор есть книги, посвященные костюму: парикам, шляпам, туфлям, платьям, – которыми я пользовался во время работы в театре, но теперь, листая их страницы, я вспоминаю, что именно такое поведение описывает Бодлер в первом абзаце «Поэта современной жизни». Что меня в этой книге поражает – если на минуту оставить в стороне товарные отношения и фетишизм (так и он поступает в своем бесконечном проекте о пассажах) – так это инстинктивное чувство детали в его неотвязном обсуждении одежды [327]. Я говорю об остроте наблюдений, состоявших либо во вспышке цвета в энергично движущейся толпе, либо в живом и смелом жесте на рисунке Константена Гиса: стиль и покрой костюма слегка изменились, бант или локон вытеснила кокарда, увеличилась баволе (аксессуар, похожий на занавес), шиньон спустился ниже по затылку. Именно «быстротечное удовольствие минутного впечатления» и составляет, по Бодлеру, сущность современности.
В Гисе (преследующем «цель более высокую, нежели та, к которой влеком праздный фланер») Бодлера восхищает стремление «выделить в изменчивом лике повседневности скрытую в нем поэзию … извлечь из преходящего элементы вечного» [328]. Это возвращает меня к тому, что в других размышлениях о современной жизни всегда тяжело поддавалось теоретизации: смешанные чувства, сопровождающие тонкий эмпиризм Беньямина, очарованного аурой моды («Господин Смерть! Господин Смерть!» – так восклицал он, говоря о моде, когда не видел в ней будущего и не писал о ней в женском роде), или довольно удивительная подробность из великолепного модного журнала, который, под несколькими художественными личинами, мужчин и женщин, Малларме написал самостоятельно. В том, что он обозревал на ипподроме, в театре или на выставке в салоне, была особая страсть к роскоши, возраставшая по мере освещения тайной, подобно «величественному и головокружительному плюмажу / над незримым челом», который внезапно останавливает взгляд на случайной странице поэмы «Бросок костей» [329]. Как в случае с некоторыми другими писателями, которых я упомянул, или со спектаклем по «Миссис Дэллоуэй», его подспудной театральностью, едва ли допустимо говорить об элитизме – не что иное, как эмпирицизм первого различения, затем выделения из чего-то неуловимого в моде поэзии, проявляющей себя в истории.
Читать дальше